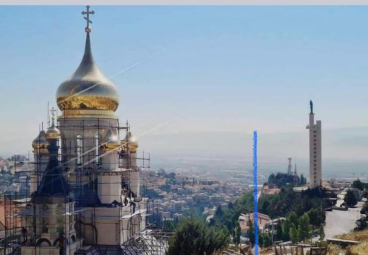Библейские образы и мотивы в поэме А. Ахматовой «Реквием». С.В. Бурдина
Почти все, писавшие о „Реквиеме“, обращали внимание на то, что современность передается в поэме с помощью библейских аналогий, что образы и мотивы Священного Писания становятся для Ахматовой средством художественного осмысления действительности, а картины Апокалипсиса — символом ее эпохи.
Лишь учитывая зловещую сущность сталинского тоталитаризма, истинный смысл событий, свидетелем которых выпало стать Ахматовой, можно понять, насколько непросто было поэту подобрать адекватный происходящему масштаб для художественного воплощения этих событий. Выбор, сделанный Ахматовой в „Реквиеме“, был продиктован эпохой - трагической эпохой тридцатых годов. Сознавала ли себя сама Ахматова творцом, автором нового Апокалипсиса? Или осознание этого пришло к ней позднее: „В 1936-м я снова начинаю писать, но почерк у меня изменился, но голос уже звучит по-другому. А жизнь приводит под уздцы такого Пегаса, который чем-то напоминает апокалипсического Бледного коня или Черного коня из тогда еще нерожденных стихов…“[1].
Уже название поэмы, предлагая определенный жанровый ключ к произведению, задает одновременно и ту специфическую систему координат, в которой только и возможно осмыслить созданный поэтом художественный образ мира. Вспомним, что „реквием“ — это заупокойное католическое богослужение, траурная месса по усопшему; более общий смысл этого слова — поминовение умерших, поминальная молитва. С этой точки зрения в высшей степени символичным представляется сделанное однажды Ахматовой признание: „Реквием“ — четырнадцать молитв"[2]. Несмотря на то что метафорический смысл этой авторской „оценки поздней“ очевиден, переклички и совпадения ахматовского текста с Библией — те, что заострены намеренно, и те, что могут показаться случайными,— поражают и заставляют задуматься. Весь „Реквием“ буквально пронизан библейской образностью. И реконструировать, „оживить“ цепочку, ведущую к древнейшим пратекстам нашей культуры, расшифровать „библейскую тайнопись“ (Р. Тименчик) поэмы — очень важно.
На истинный масштаб событий, о которых пойдет речь в поэме, указывают первые строки „Посвящения“: "Перед этим горем гнутся горы, / Не течет великая река… "[3]
Воссоздающие образ мира, в котором сместились, исказились все привычные и устойчивые параметры, эти строки вводят произведение в пространство библейского текста, заставляют вспомнить апокалиптические картины и образы: „Горы сдвинутся и холмы поколеблются…“ (Ис. 54, 10); „И небо скрылось, свившись как свиток; и всякая гора и остров двинулись с мест своих…“ (Отк. 6,14)
Знаком Апокалиптического мира является здесь и образ застывшей, остановившей течение своих вод „великой реки“. Несмотря на то что в поэме появляются и образ Дона, и образ Енисея, „великая река“ — это, конечно, Нева, образ которой обрамляет поэму, заключает ее в кольцо. Нева в поэме — это одновременно и знак апокалиптического мира, и образ „Леты-Невы“, „пропуск в бессмертие“ — сигнал подключения ко времени вечному.
Библейский контекст, выпукло проявленный в поэме, отчетливо высвечивает и еще одну смысловую грань образа „великой реки“. За образом Невы в „Реквиеме“ угадывается и библейский образ „реки Вавилонской“, на берегу которой сидит и плачет разоренный народ, вспоминая о своем прошлом. Ассоциации такие возникают не случайно: пронзительно и трагично звучит в „Реквиеме“ главная тема 136 псалма „На реках Вавилонских…“ — тема „пленения“ народа-богоборца безбожной властью: „При реках Вавилона, там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе; на вербах, посреди его, повесили мы наши арфы. Там пленившие нас требовали от нас слов песней, и притеснители наши — веселья…“ (Пс. 136, 1-3)
Если Нева в „Реквиеме“ воспринимается как река Вавилонская, то естественно, что Ленинград может быть осмыслен в семантическом пространстве поэмы как земля разоренная, „земля чужая“. Преломленные в поэме, эти библейские образы актуализируют в „Реквиеме“ и еще одну отчетливо звучащую в псалме „На реках Вавилонских…“ тему — вынужденного молчания, или иначе — „повешенной лиры“: „…на вербах… повесили мы наши арфы“ (Пс. 136, 3). Пришедшая из псалма тема вынужденного молчания приобретает в поэме Ахматовой особенную остроту. Вопрос, вложенный в уста царя Давида, говорящего от имени древних иудеев: „Как нам петь песнь Господню на земле чужой?..“ (Пс. 136, 5), перекликается с основной мыслью и пафосным строем „Эпилога“: „И если зажмут мой измученный рот, / Которым кричит стомильонный народ…“ (3, 29) Строки из Книги Бытия могли бы стать эпиграфом если не ко всему творчеству Ахматовой, то, по крайней мере, к двум ее трагическим десятилетиям: сначала — период вынужденного молчания, затем — невозможность говорить в полный голос. „Как нам петь песнь Господню на земле чужой?..“ Особенно органично этот вопрос вписывается в контекст „Реквиема“.
Образ плененного города, в котором невозможно петь, сливается в „Реквиеме“ с образом города „одичалого“. Эпитет „одичалая“ („…По столице одичалой шли“), употребление которого по отношению к столице, городу, кажется неожиданным, также отсылает к Библии. Вписываясь в контекст 136 Псалма, образ одичалого города в то же время восходит к „Книге пророка Софонин“: „Горе городу нечистому и оскверненному, притеснителю!..
Князья его посреди него — рыкающие львы, судьи его — вечерние волки, не оставляющие до утра ни одной кости…
Я истребил народы, разрушены твердыни их; пустыми сделал улицы их, так что никто уже не ходит по ним; разорены города их: нет ни одного человека, нет жителей“ (Соф. 3, 1-6)
Годы, проведенные героиней в тюремных очередях, названы в „Реквиеме“ „осатанелыми“. Надо сказать, что прилагательное это отнюдь не случайно возникло в поэме о кровавых годах сталинских репрессий. Оно не только выражает здесь крайнюю степень эмоциональной оценки современной действительности и является в какой-то степени синонимичным прилагательному „одичалый“, но и, перекликаясь со всей образной системой поэмы, оказывается обусловленным ее библейским контекстом. Осатанелыми являются в поэме и „страшные годы ежовщнны“, и, конечно, сам Ленинград — город плененный и разоренный, город „одичалый“. В семантическом пространстве поэмы образ осатанелых лет и — шире — осатанелого города соотносится с одним из основных образов поэмы — образом звезды, безусловно, центральным в той картине апокалиптического мира, которую художественно выстраивает Ахматова. Интересно, что сама близость этих образов оказывается обусловленной библейским текстом: под звездой в Апокалипсисе понимается Сатана, которого сбрасывают с неба на землю. Если Ангелы в библейском тексте уподобляются звездам (Иов. 38, 7; Отк. 12, 4), то Сатана, будучи архангелом,— „деннице“, т. е. яркой звезде (Ис. 14, 12).
Образ звезды, огромной, застывшей и яркой, являясь в поэме главным символом наступающего Апокалипсиса, впрямую соотнесен Ахматовой со смертью, жестко вписан в картину вселенской катастрофы[4]. На то, что звезда в поэме — образ апокалиптический, зловещий символ смерти, красноречиво указывает, в первую очередь, тот контекст, в котором появляется он в поэме:
Звезды смерти стояли над нами,
И безвинная корчилась Русь
Под кровавыми сапогами
И под шинами черных марусь.
(3, 23)
И прямо мне в глаза глядит
И скорой гибелью грозит
Огромная звезда.
(3, 25)
Кроме того, появление образа звезды, точнее — „звезд смерти“, подготавливается в поэме образами, моделирующими картину апокалиптического мира: остановившей свое течение реки, сместившихся гор, „помраченного“ солнца. Кстати, строка „Солнце ниже и Нева туманней…“ сама воспринимается как скрытая цитата из Апокалипсиса: „… и помрачилось солнце и воздух от дыма из кладязи“ (Отк. 9, 3).
Ахматовский образ звезды, яркой и падающей, восходит к Библии, его символика оказывается впрямую соотнесенной с библейским осмыслением образа, причем переклички поэмы с Книгой Бытия порой достаточно выразительны: „…И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба…“ (Мф. 24, 29). Особенно часто возникает образ звезды в Апокалипсисе: „Третий Ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод“ (Отк. 8, 10). „Пятый Ангел вострубил, и я увидел Звезду, падшую с неба на Землю, и дан ей был ключ от кладязя бездны. Она отворила кладязь бездны, и вышел дым из кладязя, как дым из большой печи; и помрачилось солнце И воздух от дыма из кладязя Из дыма вышла саранча на Землю…“ (Отк. 9,1-3)
Образ звезды возникнет в „Реквиеме“ и еще раз — в главке „К смерти“:
Мне все равно теперь. Струится Енисей,
Звезда полярная сияет.
И синий блеск возлюбленных очей
Последний ужас затмевает.
(3, 27)
Название главки подтверждает: и на сей раз „вечный образ“ Священного Писания вписывается в общую семантику Апокалипсиса поэмы, и на сей раз звезда — зловещий символ смерти, знак иной реальности. Процитированные строки неизбежно эксплицируют образ Мандельштама, о трагической судьбе которого Ахматова к этому времени, если и не знала точно, то догадывалась: „синий блеск возлюбленных очей…“. А возникающие в контексте главки переклички со стихотворением Мандельштама 1922 г. „Ветер нам утешенье принес…“ актуализируют, дополнительно высвечивают „библейское“ звучание ахматовского образа, заставляют прочитать его и здесь, в „Реквиеме“, в первую очередь, в качестве библейского:
Есть в лазури слепой уголок,
И в блаженные полдни всегда,
Как сгустившейся ночи намек,
Роковая трепещет звезда[5].
Вполне естественно предположить, что образ звезды в пространстве ахматовского текста мог ассоциироваться и с кремлевскими звездами, ставшими универсальным символом эпохи сталинского террора. Такого рода аллюзии не отрицали проявленный выпукло в поэме библейский контекст как основной, решающий в интерпретации образа, скорее, также способствовали его выявлению. Кремлевские звезды, являясь символом Кремля — места, где „угнездился“ тиран, в эпоху 30-х годов впрямую ассоциировались со смертью и угрозой наступления Апокалипсиса. Понятные и близкие современникам Ахматовой, эти „внешние“, на первый взгляд, ассоциации органично вписывались и в библейский контекст поэмы.
Анализ памяти культуры „Реквиема“ убедительно показывает, насколько актуализирован в поэме ассоциативный ряд, напрямую связанный с темой смерти, какова функция „вечных образов“ культуры в тексте произведения. Особенно велика в художественном осмыслении и воплощении идеи смерти роль библейских образов и мотивов. Как мы убедились, именно этот пласт культурной памяти реконструирует в „Реквиеме“ апокалиптическую картину мира, помогает осознать в качестве f главной и единственной реальности произведения пространство смерти. В семантическое поле смерти вписывают „Реквием“ не только образы-символы Апокалипсиса, рассмотренные выше, и не только образы-детали, создающие своеобразный „библейский“ фон: божница, свеча, холод иконки II т.д.; все они в контексте ахматовского произведения могут быть прочитаны и как атрибуты похоронного обряда. Среди библейских образов, „архетипичных для ситуации „Реквиема“ (Л. Кихней), главное место, безусловно, занимают образы распинаемого Сына и присутствующей при казни Матери.
Появление в тексте поэмы о смерти картины Распятия, центрального эпизода Нового Завета, получает — на уровне внешнем, сюжетном — вполне „реалистическое“ объяснение: картины и образы новозаветной трагедии возникают в сознании героини подобно видению, откровению — на грани жизни и смерти, когда „безумие крылом души накрыло половину…“. Однако глава „Распятие“ впаяна в текст „Реквиема“ гораздо более прочно. В ней сконцентрированы все основные смысловые линии произведения.
Вряд ли можно полностью согласиться с Е. Г. Эткиндом, уверенным в том, что обе картины „Распятия“ „в большей степени восходят к обобщенным живописным образцам, нежели к евангельскому первоисточнику“[6]. Текст „Реквиема“ убеждает в обратном.
Близость „Распятия“ к своему источнику — Священному Писанию закрепляется уже эпиграфом к главе: „Не рыдай Мене, Мати, во гробе зрящи“ (3, 28). Эпиграфы у Ахматовой всегда подключают к произведению новые смысловые контексты, актуализируют „вечные образы“ культуры, вводят текст современности в культурную традицию, а часто оказываются и ключом к прочтению всего произведения. Делая эпиграфом слова из ирмоса IX песни канона службы в Великую субботу, Ахматова, по сути, соединяет страдания распятого Сына и присутствующей при казни Матери в единый емкий и пронзительный художественный образ. Тем самым получает свое обоснование и композиция главы: объектом ее первого фрагмента оказывается Сын, объектом второго — Мать.
Насколько велика роль смысловых импульсов, идущих от цитируемого источника, в полной мере позволяет ощутить и первая миниатюра главы:
Хор ангелов великий час восславил,
И небеса расплавились в огне.
Отцу сказал: „Почто меня оставил?“
А Матери: „О, не рыдай Мене…“
(3, 28)
Ориентация на библейский текст чувствуется уже в первых строках фрагмента — в описании природных катаклизмов, сопровождающих казнь Христа. В Евангелии от Луки читаем: „…и сделалась тьма по всей земле до часа девятого: и померкло солнце, и завеса в храме раздралась посередине“ (Лк. 23, 44-45). Адресованный Отцу вопрос Иисуса „Почто меня оставил?“ также восходит к Евангелию, являясь почти цитатным воспроизведением слов распятого Христа: „В девятом часу возопил Иисус громким голосом: Элон! Элои! ламма савахфани? — что значит: Боже мой! Боже мой! для чего ты меня оставил?“ (Мк. 15, 34). Слова же „О, не рыдай Мене…“, обращенные к матери, заставляют вспомнить эпиграф к главке, оказываясь одновременно и неточной цитатой из Евангелия. Сопровождавшим его на казнь и сострадающим ему женщинам Иисус говорит: „…дщери Иерусалимские! не плачьте обо Мне, но плачьте о себе и о детях ваших…“ (Лк. 23, 27-28). Другими словами, четвертая строка поэтического фрагмента представляет собой контаминацию евангельского текста и цитаты из ирмоса пасхального канона, ставшей эпиграфом к главе „Распятие“.
Заслуживает внимания то обстоятельство, что в тексте Евангелия слова Иисуса обращены не к матери, а — к сопровождавшим его женщинам, „которые плакали и рыдали о Нем“ (Лк. 23, 27). Адресуя слова Сына непосредственно Матери, Ахматова тем самым переосмысливает евангельский текст. Намеренное несовпадение с традицией, отступление от образца — при общей явной ориентации на Библейский первоисточник — призвано выявить замысел автора, акцентировать в нем самое существенное. Так подготавливается второй фрагмент главки — сцена Распятия. По-новому освещая, точнее — выстраивая, пространство около Голгофского креста, меняя местами устойчивые пространственные параметры: центр евангельской картины и ее периферию, Ахматова и здесь основное внимание приковывает к матери, ее страданиям:
Магдалина билась и рыдала,
Ученик любимый каменел,
А туда, где молча Мать стояла,
Так никто взглянуть и не посмел.
(3, 28)
Итак, предлагаемое в „Реквиеме“ осмысление новозаветной трагедии полностью в рамки канона не вписывается. „В новой, ахматовской трагедии смерть сына влечет за собой смерть матери“[7], а потому созданное Ахматовой „Распятие“ — это Распятие не Сына, а Матери. Именно так прочитывается эта кульминационная сцена Евангелия в „Реквиеме“. Если говорить об ориентации на Священное Писание, то в своей трактовке центрального эпизода Евангелия Ахматова ближе к Евангелию от Иоанна. В нем -единственном! — обращается внимание на то, что „при кресте Иисуса стояла Матерь Его…“ (Ин. 19, 25), и рассказывается, как Сын Человеческий в минуту страшных мучений не забыл о Матери своей: „Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей: Жено! се, сын Твой. Потом говорит ученику: се, Матерь твоя!“ (Ин. 19, 26-27). Не может не поразить тот факт, что и Марк, и Матфей, и Лука, перечислив по имени некоторых женщин, присутствовавших при казни: „между ними была и Мария Магдалина, и Мария, мать Иакова меньшого и Иосии, и Саломня“ (Мк. 15, 40), -ни слова не сказали о Матери.
Ахматова обращается к самому высокому, самому пронзительному из всех, которые знало когда-либо человечество, образцу материнского страдания — к страданию Матери. Материнская любовь — земной аналог глубоко укорененному в душе человека архетипа Богородицы.
Несмотря на то что Ахматова, как верующая христианка, почитала Деву Марию, образ Богородицы встречается в творчестве Ахматовой не часто. Впервые он появляется в поэзии Ахматовой в 1912 г., в год рождения сына: „Загорелись иглы венчика / Вкруг безоблачного лба…“ (1, 105). Возникнув через два года в пророческом стихотворении „Июль 1914“, образ Божией Матери встретится уже только в начале 20-х годов — в поминальном оплакивании „Причитание“ (1922) и плаче-причитании „А Смоленская нынче именинница…“ (1921), а затем надолго уйдет из творчества Ахматовой. Тем примечательнее его появление в „Реквиеме“. Центральная оппозиция „Реквиема“ „мать-сын“ неизбежно должна была быть соотнесена в сознании Ахматовой с евангельским сюжетом, а страдания матери, которую „разлучили с единственным сыном“,— со страданиями Матери Божией. Поэтому образ Богородицы в „Реквиеме“ является не просто лишь одним из „ликов“ героини, он требует своего осмысления как один из главных, а может быть и главный, образ поэмы. Обращение к образу Божией Матери помогло Ахматовой обозначить истинный масштаб происходящего, подлинную глубину горя и страдания, выпавших на долю Матери узника ГУЛАГа,— и таким образом создать монументальное эпическое обобщение. Показательно, что в „Реквиеме“ образ Богородицы появляется не только в сцене Распятия, т. е. тогда, когда поэт обращается непосредственно к евангельском) сюжету. Образ этот венчает поэму. Его появление в „Эпилоге“ символично: „Для них соткала я широкий покров / Из бедных, у них же подслушанных слов“ (3, 29).
Упоминание о „широком покрове“ в „Эпилоге“ поэмы заставляет вспомнить другой образ — из стихотворения 1922 г. „Причитание“:
Провожает Богородица,
Сына кутает в платок,
Старой нищенкой оброненный
У Господнего крыльца.
(1,387)
Но еще раньше образ Богородицы, расстилающий „широкий покров“ „над скорбями великими“, возникает в финале стихотворения „Июль 1914“: „Богородица белый расстелет / Над скорбями великими плат“ (4, 107).
В стихотворении „Июль 1914“, написанном на второй день после объявления войны 1914 г., с образом Богородицы связывались надежды автора на заступничество и избавление от бед, нанесенных вторжением неприятелей в родную страну. В „Причитании“ смысл появления образа Богородицы иной: этот „скорбный плач о пострадавших за веру, о богооставленности русского народа“[8] явился, как считает Л. Г. Кихней, ответом на изъятие церковных ценностей из храмов в 1922 г. Именно поэтому в числе других святых покидает храм и Богородица. Обе смысловые линии: мысль о богооставленностп народа русского и надежда на избавление страны от власти тирана — соединяются в „Реквиеме“ в образе Божией Матери. Во всех трех текстах образ Богородицы — той, что расстилает „над скорбями великими плат“, и той, что „сына кутает в платок“, и той, что соткала „широкий покров“,— появляется и как напоминание о православном празднике Покрова Пресвятой Богородицы, „религиозный смысл которого — молитвенное предстояние Богоматери за мир“[9].
Образные переклички „Эпилога“ и более ранних произведении Ахматовой окончательно убеждают в том, что за финальными строчками поэмы возникает образ Божией Матери, однако на сен раз — и это логичное завершение основной идеи „Реквиема“ — в роли Богородицы выступает сама героиня: „Для них соткала я широкий покров…“. Безусловно, семантическое пространство поэмы актуализирует и контексты названных произведении. Особенно важным с этой точки зрения оказывается диалогическое взаимодействие „Реквиема“ со стихотворением „Июль 1914“. Подключение основных смысловых импульсов стихотворения к поэме заставляет прочитать ее в аспекте „сбывшихся пророчеств“ и „последних сроков“. Заметим: если в 1914 г. слова „одноногого прохожего“ могли восприниматься еще как пророчество: „сроки страшные близятся…“, то в 1940 г. у Ахматовой уже были все основания горько и обреченно констатировать очевидное: „Предсказанные наступили дни“ (1917). Апокалиптические мотивы „последних сроков“, „опрокинутые“ в пространство 30-х годов, обретают в „Реквиеме“ новый смысл, становятся прямой проекцией реальности.
Таким образом, переоценить роль „библейского“ пласта в „Реквиеме“ невозможно. Проецируя все произведение в пространство смерти, „вечные образы“ культуры передают основное ощущение эпохи 30-х годов — ощущение призрачности, нереальности происходящего, межрубежья жизни и смерти, обреченности и духовной катастрофы — трагическое предчувствие конца эпохи, гибели поколения, собственной смерти. Через символику Апокалипсиса, через образы абсурдного и перевернутого бытия „вечные образы“ Священного писания вели Ахматову к реконструкции целостной картины трагической эпохи кровавого террора, к воплощению образа мира иррационального и катастрофического, но главное — обреченного в неспасаемого. Именно такой виделась Ахматовой современная действительность — „апокалиптическая эпоха, протрубившая боевой сигнал к охоте на человека“[10].
___________
Примечания
[1]. Хейт А. Анна Ахматова. Поэтическое странствие. Дневники, воспоминания, письма А. Ахматовой. М., 1991. С. 243.
[2]. Кушнер А. С. У Ахматовой // Ахматовские чтения. М., 1992. Вып. 3. „Свою меж вас еще оставив тень…“ С. 136.
[3]. Ахматова А. Собр. соч. В 6т. М., 1998. Т.З. С. 22. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и страницы в скобках.
[4]. Знаковая природа образа звезды у Ахматовой проявляет себя достаточно явно уже в раннем се творчестве, где образ этот меньше всего может быть воспринят как пейзажная деталь. Включенный в устойчивое смысловое поле, в устойчивую символику смерти, он, как правило, и все произведение опрокидывает в поле смерти:
„Я гощу у смерти белой
По дороге в тьму.
Зла, мой ласковый, не делай
В мире никому“.
И стоит звезда большая
Между двух стволов,
Так спокойно обещая
Исполненье слов.
(1, 245)
[5]. Мандельштам О. Сочинения. В 2 т. М., 1990. Т.1. С. 144.
[6]. Эткинд Е. Г. Бессмертие памяти. Поэма Анны Ахматовой „Реквием“ // Там, внутри. О русской поэзии XX века. СПб, 1997. С. 358.
[7]. Лейдерман Н. Л. Бремя и величие скорби („Реквием“ в контексте творческого пути Анны Ахматовой) // Русская литературная классика XX века. Монографические очерки. Екатеринбург, 1996. С. 211.
[8]. Кихней Л. Г. Поэзия Анны Ахматовой Тайны ремесла. М., 1997. С. 62.
[9]. Там же.
[10]. Хазан В. И. Материалы к спецкурсу „Из истории русской поэзии серебряного века“. Вып. I. Грозный, 1992. С.88
С. В. Бурдина
профессор кафедры русской литературы Пермского государственного университета
Опубл.: Библейские образы и мотивы в поэме А. Ахматовой „Реквием“/ С. В. Бурдина // Филологические науки.-2001.-N6.-С.3–12.