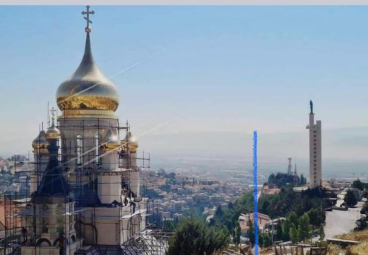«Через Неву, через Нил и Сену…». Египетская тема в творчестве Н.С. Гумилёва. Е.Ю. Раскина
Египетская тема в творчестве Н.С. Гумилёва
Культуроним (образ) Египта — один из наиболее значимых в творчестве Н. С. Гумилёва. Три реки — Нева, Нил и Сена — занимают центральное место в его поэтической географии. Но если роль «широкой, как Нил» Невы и символизирующей Францию Сены в поэтической географии Гумилёва уже являлась предметом литературоведческого исследования, то роль Нила, символизирующего Египет, еще не достаточно изучена.
В творчестве Гумилёва тема Египта распадается на два периода: имеется ввиду книжное знакомство поэта с культурой Египта, ознаменовавшееся выходом журнала «Сириус» и появлением на его страницах неоконченного прозаического произведения «Вверх по Нилу» («Листы из дневника»), и знакомство предметное, связанное с Гумилёвскими поездками в Египет, датировка первой из которых до сих пор является дискуссионной (1907 или 1908 г.?).
Предметное знакомство ознаменовалось появлением ряда поэтических текстов, в которых чувствуется некнижный Египет с его пейзажно-архитектурными реалиями. Однако некоторые из этих текстов («Заклинание», «Гиена», «Зараза», «Ужас», «Рощи пальм и заросли алоэ» [1]) датируются 1907-м, что вызывает сомнения в датировке первой Гумилёвской поездки в Египет именно 1908 годом. «Версии 1908 года» придерживалась А. А. Ахматова, и, надо сказать, что ее мнение перевесило для исследователей и биографов — от П. Н. Лукницкого до А. Б. Давидсона — все аргументы в пользу «противоположной стороны».
Как утверждает Ю. В. Зобнин, версия 1907 г. не соответствует действительности и восходит к рассказу «Вверх по Нилу. Листы из дневника», опубликованному в журнале «Сириус» в январе-феврале 1907 г. В этом прозаическом произведении есть фразы («Я устал от Каира, от солнца, туземцев, европейцев, декоративных жирафов и злых обезьян… Проходят дни, недели, а я все еще в Каире» — 6, 20), позволяющие говорить о пребывании Гумилёва в Египте в 1907 г.
Однако Ю. В. Зобнин, как и А. Б. Давидсон, считает «Листы из дневника» не итогом первого путешествия в Египет, а лишь литературным воплощением мечты о встрече с этой загадочной страной. Тем не менее, сам Гумилёв отнюдь не опровергал факт своего путешествия в Египет в 1907 г., хотя и не подтверждал его. Версию 1907 года убедительно доказал В. П. Петрановский, и в дальнейшем мы будем придерживаться этой точки зрения.
Как уже говорилось выше, первое, книжное знакомство Гумилёва с культурой Египта ознаменовалось выходом в Париже журнала «Сириус» (январь 1907-го), инициатором и основным автором которого был поэт. Но при изучении этого книжного знакомства следует, прежде всего, обратить внимание на египетское название журнала, ведь Сириус значит — «звезда Нила». В «Истории неба» К. Фламариона читаем: «Тесная связь между появлением этой звезды (Сириуса — Е. Р.) и разлитием Нила заставила народ еще чаще называть ее Звездой Нила или просто Нилом, — по египетски и по-еврейски — Сихор, по-гречески Soqiz, по-латыни Sirius» [16, С. 120].
«Звезда Нила» предупреждала египтян о возможном наводнении, а поскольку «предостережение об угрожающем наводнении было самым главным событием в году египтян, то календарь их начинался с восхода Нильской звезды, равно как и все последующие праздники» [16, С. 121]. Думается, что Гумилёв не мог не знать об этом, когда выбирал название для своего журнала, тем более что содержание первого номера «Сириуса» было частично египетским («Вверх по Нилу. Листы из дневника»).
Интересно, что верховья Нила, египетский бассейн которой манил к себе исследователей и поэтов, располагаются на территории современных Судана и Эфиопии (Гумилёвской Абиссинии). «Эти страны часто упоминаются в оккультных работах в качестве «наследников» допотопной «атлантической» культуры, прежде всего — магических тайн», — указано в комментариях к рассказу «Вверх по Нилу. Листы из дневника» [7, Т. 6, С. 286]. В верховьях Нила располагалась таинственная страна «короля-волхва Бальтазара», упомянутая в рассказе («Один нищий дервиш рассказал мне, что в тропических лесах еще могуче племя мудрых эфиопов под властью потомка короля-волхва Бальтазара») [7, Т. 6, С. 20]. Можно сказать, что Гумилёв отсылает нас не столько к «оккультным тайнам» и «Тайной доктрине» Е. Блаватской (главы «Лотос как всемирный символ» и «Культ древа, змия и крокодила»), сколько к событиям, сопровождавшим рождение Спасителя: появлению на небосклоне Вифлеемской звезды и путешествию царей-волхвов за этой путеводной звездой.
Возвращаясь к интерпретации названия альманаха («Сириус»), следует указать и на другие варианты толкования названия, которые, вероятно, были известны Гумилёву. Как известно, звезда Сириус находится в южном созвездии Большого Пса, которое восходит высоко только в тропиках и в южном полушарии. Последний факт дал основание называть Сириус «Звездным псом». Кроме того, существует легенда, согласно которой именно Сириус указал царям-волхвам дорогу к месту рождения Иисуса Христа, после чего получил второе название — Вифлеемская звезда. Образ царей-волхвов, пришедших из Египта, Персии и Абиссинии для того, чтобы поклониться младенцу-Христу, необыкновенно важен для творчества Гумилёва. О значении этого образа мы уже подробно говорили выше. Однако в контексте различных интерпретаций символики звезды Сириус этот образ приобретает дополнительную семантику, на которую мы сочли нужным указать. Как мы видим, выбор названия для парижского альманаха был далеко не случайным — многогранная символика звезды «Сириус» предоставляла Гумилёву обширные возможности для мифологизации.
Интересно, что одного из царей-волхвов традиционно относили к персидско-месопотамскому региону, а в рассказе «Вверх по Нилу. Листы из дневника» упоминается «ковер из старой Персии, на котором, быть может, заклинали солнечных духов» [7, Т. 6, С. 21]. Узоры персидских ковров ассоциировались у Гумилёва с символикой сакрального орнамента, когда причудливое переплетение линий растительного орнамента напоминает о необыкновенных, экзотических растениях райского сада. «Золото, пурпур и роскошь черных царей», все эти атрибуты загадочной земли в верховьях Нила, символизируют у Гумилёва движение к истине, путешествие за путеводной Вифлеемской звездой или «столпом огненным».
Следует указать на еще один аспект символики звезды Сириус, по всей видимости, известный Гумилёву. Дело в том, что в египетской мифологии существовала богиня Нового года и разливов Нила, начало которых было связано с появлением звезды Сириус. Эта богиня — Сопдет или Сотис — считалась персонификацией «звезды Нила» и покровительницей умерших. Изображалась она в виде коровы или женщины с коровьими рогами и отождествлялась с Исидой. Сопдет или Сотис подобна «деве богов» «feminaadorata») Фармаковского и Гумилёва — царице волшебных «садов души».
Интересно, что в редакционном предисловии к «Сириусу» поэт называет современный ему Париж «второй Александрией утонченности и просвещения» и тут же вспоминает о Новом Египте, «где времена сплелись в безумье и пляске». Тема Александрии и Нового Египта, затронутая в 1907-м, парадоксальным образом «всплыла» в трагедии «Отравленная туника» (1918), где появилась александрийская плясунья Феодора, ставшая византийской императрицей. «Странная судьба Николая Степановича; 8-й и 18-й годы в Париже, и оба раз так любил — до попыток самоубийства. И оба раза потом в Крыму был. Странная судьба: кругами, кругами… Как коршун!», — говорила о Н. С. Гумилёве А. А. Ахматова — Семирамида и Феодора его жизни и творчества [11, С. 165]. В «Записных книжках» А. А. Ахматова вспоминала, что была для Н. С. Гумилёва «чем-то средним между Семирамидой и Феодорой» [8, С. 100].
В 1917–18 году, во время написания трагедии «Отравленная туника», Гумилёв снова оказался в Париже, этой «новой Александрии утонченности и просвещения», и, с помощью нового произведения, подвел итоги своего первого парижского периода. Биографически подведению итогов способствовала неразделенная любовь к «Синей звезде», зеркально отразившая метания 1907–1908 гг.. Творчески — европейская передышка, когда перед тем, как в последний раз «погрузиться» в «дикую, родную Русь», поэт снова оказался в утонченном Париже-Александрии, на. котором, однако, не могли не сказаться катастрофы Первой мировой.
В «Отравленной тунике» Александрия — некий мировой котел, где «греки, финикияне, арабы // При помощи логических фигур, геометрических сопоставлений // Творят еще неслыханные веры» [7, Т. 5, С. 212] и властвует танцовщица Феодора, подобная «веселому плясуну случаю». О роли эклектизма и александризма в культуре модернизма писал в своих статьях Андрей Белый. По мнению Андрея Белого, сила и оригинальность нового искусства заключалась в стремлении сочетать художественные приемы разнообразных культур и «создавать новое отношение к действительности путем пересмотра серии забытых миросозерцаний» [3, С. 49].
Под «серией забытых миросозерцаний», которые нуждаются в пересмотре, Андрей Белый подразумевал и александрийский «культурный котел», в котором соединились финикийские, египетские, греческие и арабские веяния. В Гумилёвской «Отравленной тунике» Александрия — это город, где создаются «еще неслыханные веры, / Которые живут, как мотыльки, / Лишь день один, но все-таки пленяют…» [7, Т. 5, С. 212]. В упоминании вер-мотыльков можно усмотреть связь с приведенной выше цитатой из книги Андрея Белого «Символизм», где упоминается о создании нового отношения к действительности путем пересмотра серии забытых миросозерцаний.
Для русских модернистов было характерно представление об «александризме» как о синкретическом и, в то же время, «музейном» типе культуры. В «музейном александризме» упрекал Вячеслава Иванова А. Блок, почерпнувший понятие «александризм» из статей Вячеслава Великолепного [4, С. 365-367]. С другой стороны, согласно Ф. Ницше, синкретический «александризм» был свидетельством упадка античной культуры.
«Если исключительное торжество начала дионисического грозит растерзанием человека и гибелью личности, то же исключительное торжество начала аполлонического грозит человеку бессодержательным формализмом, исключительно формальной культурой, александризмом, своеобразным античным позитивизмом», — писал Н. А. Бердяев [5, С. 100]. Для Гумилёва, предпочитавшего «дионисийскую ересь» гармонически ясному и стройному аполлоническому началу, синкретический александризм являлся скорее «цветением» античной культуры, чем ее упадком.
Дискуссия о смысле и культурном назначении «александризма» была характерна для «серебряного века» русского искусства. Собственно говоря, дискуссионным оставался вопрос, усматривать ли в «александризме» как художественном синкретизме выражение «цветения культуры» или же следствие ее упадка? Известно, что Шпенглер в «Закате Европы» писал о скрытом александризме» искусства XIX ст., состоящем в том, что вместо живого искусства орудуют с его мумией, с искусством готовых форм. Между тем, защитники «александризма» как художественной программы усматривали в возможности комбинирования культурных форм несомненную ценность эстетического синкретизма, считали музейный характер «александризма» скорее достоинством, чем недостатком. Для Вячеслава Иванова «александризм» был проявлением аполлонизма в искусстве. Близкой точки зрения придерживался и Н. С. Гумилёв.
Говоря о значении понятия «александризм» для русских поэтов, нельзя не вспомнить о «гармонии александрийского стиха», воспетой ими. «Дитя гармонии, Александрийских стих, ты мед и золото для бедных губ моих», — восклицал Георгий Иванов [17, С. 11]. Для акмеистов александрийский стих был воплощением гармонии в искусстве, средоточием «классического темперамента». «Классический темперамент («Laraisonraisonnant», по Ипполиту Тэну) противоположен романтическому захлестыванию всего существа каким-либо одним чувством», — писал Н. Оцуп — член второго «Цеха поэтов» [13, С. 11]. И продолжал: «Delamusiqueavanttoutechose» и вообще всякое «avanttoutechose» с головой выдает неклассиков» [13, С. 12]. Можно полностью согласиться с Н. Оцупом в том, что деятельность Гумилёва как теоретика и поэта носила печать классицизма.
Существовало и другое значение понятия «александризм», о котором, по всей видимости, было известно Гумилёву. Речь идет об александризме как о богословской школе, противоположной антиохизму. Так, профессор Московской духовной академии А. П. Лебедев, автор диссертационного исследования и монографии «Вселенские соборы IV и V веков» (1879), относил сторонников Никейского собора к александрийскому лагерю, а его противников — к антиохийскому. Исследование Лебедева получило достаточно широкую известность, и термин «александрийская школа» («александризм) утвердился в богословии. Интересно, что арианская ересь связывалась богословами конца XIX— начала XX века с антиохийской школой. Думается, что при анализе значения культуронима Александрии в «Отравленной тунике» Гумилёва следует учитывать и культурно-философское, и богословское значение этого понятия.
Огромное значение здесь приобретает Александрия как центр коптского христианства (Александрийский патриархат). «Христианское миросозерцание православной Руси невозможно вообразить без отшельничества ранних христиан в Египте, равно как и нельзя представить себе русского христианского искусства без греко-римского, соединяющего античные и египетские художественные и идейные традиции. Русская православная церковь ощущала свою близость коптской церкви и всегда поощряла всевозможные контакты с ней», — справедливо указывают Г. А. Белова и Г. А. Шеркова [2, С. 90].
Кроме того, как писал Б. А. Тураев, именно через Александрию юг «русской равнины» получал произведения египетского и подражающего египетскому искусства. «В Египте — корни европейского искусства, — справедливо утверждал Тураев, — он впервые дал тип пропорциональной человеческой фигуры и создал стиль, в котором многообразие жизни подчинено единому представлению. Наконец, в лице христианства Древний Восток духовно покорил Запад, подчинивший его оружием» [15, С. 7].
Паломнические христианские маршруты в Египте неоднократно упоминаются в текстах Гумилёва. Так, например, в ст-нии «Вступление» («О тебе, моя Африка») читаем: «И последняя милость, с которою / Отойду я в селенья святые, / Дай скончаться под той сикиморою, / Где с Христом отдыхала Мария» [7, Т. 4, С. 12]. Сикимора, под которой отдыхало Святое Семейство во время бегства в Египет, это вполне реальная, а не легендарная точка египетского маршрута паломников-христиан. Священную сикимору Богоматери показывали паломникам-христианам в Гелиополе. Так, сотрудник одного из петербургских министерств Е. Э. Картавцов вспоминал, что это было уже не то самое дерево, но, согласно преданию, от того же самого корня. А. С. Норов в своих «Путешествиях по Египту и Нубии» (Санкт-Петербург, 1840) вспоминал, что Священная сикимора Богоматери находилась в саду, в стороне от дороги, на территории коптского монастыря, в Гелиополе, тогда и ныне — Эль-Матарии, пригороде Каира.
«До шестидесятых годов XIX века сад, где находилась эта смоковница принадлежал России, — пишут Г. А. Белова и Г. А. Шеркова, — точнее, одному из тогдашних дипломатов в Каире» [2, С. 176]. Этот дипломат, покидая Каир, подарил сад со смоковницей хедиву Измаилу. Хедив, в свою очередь, преподнес сад французской императрице Евгении, жене Наполеона III. Императрица путешествовала по Египту, и лучший подарок, чем этот сад, трудно было найти. Затем сад стал принадлежать католическим монахам, которые и стали владельцами священного дерева. Историю священного дерева рассказывал и другой русский путешественник — С. Фонвизин. Своей поездке Фонвизин посвятил книгу «Семь месяцев в Египте и Палестине» (СПб., 1910).
Северо-восточный пригород Каира Эль-Матария был излюбленным местом паломничества христиан — православных и католиков. Уже упоминавшийся выше А. С. Норов посетил Эль-Матарию в 1834–1835 гг. и писал об этом селении следующее: «Селение Матарие, этот мирный оазис, осененный веселою рощею и цветущий среди безмолвной пустыни, сохраняет глубокие, утешительные воспоминания для христианина. Здесь, по достовернейшим преданиям, Пресвятая Дева с Божественным Младенцем Иисусом, сопровождаемая Иосифом, нашла себе покров после утомительного пути через пустыню» [12, С. 50]. Православные паломники считали свое паломничество несостоявшимся, если по дороге из Палестины не побывали в Матарии. Русский путешественник А. С. Норов прибыл в Матарию с севера, по пути из Александрии в Каир.
«Мы имеем достаточные основания думать, согласно с местным преданием, что пребывание Пресвятой Богородицы было возле Гелиополиса, ибо тут были колонии еврейские. Святое семейство преимущественно могло избрать себе жилище между соотечественниками и предпочесть Гелиополис шумному Мемфису», — утверждал Норов [12, С. 51]. Матарийское древо Пресвятой Богородицы и источник, у которого отдыхало Святое семейство, стали сакральными центрами Нижнего Египта, священными для каждого христианина.
Фрагмент из записок Норова, рассказывающий о Сикиморе Богоматери, мы считаем необходимым привести полностью. Итак, А. Норов пишет следующее: «В саду Матарие показывают срубленное фиговое дерево, от которого остался удивительной толщины пень, носящий на себе печать веков. Из вершины этого пня идут теперь в высоту сочные ветви, которые обещают возобновление дерева в прежней красоте; множество надписей, большею частью еврейских, арабских и коптских, перемешанных с красными знаками, испещряют пень. По преданиям, это дерево осеняло некогда своей тенью Святое семейство» [12, С. 51].
Далее Норов описывает фруктовый сад и светлый источник, которому, как и дереву, приписывали целебные свойства. Возле сада находились развалины священного жилища Матери Божией, куда приходили отправлять службы христианские священники из Каира. Русский паломник посетил сад и прочел Богородичную молитву.
Интересно, что свое название селение Эль-Матария получило от арабского «свежая вода». Вода из Матарии была известна во всем Египте, так как почти везде, кроме этого места, имела солоноватый вкус — из-за натровых частиц земли. Интересно также, что и доныне арабы называют священный источник в Эль-Матарии — «Айн Шемс», что обозначает «источник солнца».
В этом контексте важным является христианское восприятие Богоматери как Одушевленного Рая и Древа жизни. В каноне Акафиста Божией Матери преподобного Иосифа Песнописца читаем: «Огнеобразная колеснице Слова, радуйся, Владычице, одушевленный Раю, Древо посреде имуще Жизни — Господа, Его же сладость оживотворяет верою причащающихся и тли подклонившихся…». Песнописец сравнивает Богоматерь с огненной колесницей, везущей Слово Божие, которое, будучи зачатым в Ней, обращает Марию не только в колесницу, но и в «одушевленный Рай», имеющий в себе Древо Жизни — Христа. Древо Жизни также символизирует самого Христа («Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой — виноградарь. Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает; и всякую, приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое Я проповедал вам. Пребудьте во Мне, и Я в вас. […] Я есмь лоза, а вы ветви; […] ибо без Меня не можете делать ничего…» (Ин. 15:1-5). Таким образом смиренная просьба принять христианскую кончину у Священной сикиморы Богоматери («Дай скончаться под той сикиморою, / Где с Христом отдыхала Мария») синонимична просьбе отойти в мир иной у земного образа евангельского Древа Жизни, заснуть в земном саду, чтобы проснуться в саду небесном.
В 1880–1881 гг. в Египте побывал русский путешественник Василий Андреевский. Во время своего пребывания в Каире Андреевский посетил Гелиополис, расположенный на северо-востоке египетской столицы, а также то место, где, согласно преданию, отдыхало Святое семейство во время бегства в Египет. «Этот эпизод из детства Христа, так часто бывший сюжетом великих художественных произведений, видишь здесь в лицах на каждом шагу, — писал Андреевский. — Еще на пути к Гелиополису я обогнал женщину, ехавшую на осле и державшую на руках ребенка, прикрывая его от солнца полою своего широкого синего бурнуса. В нескольких шагах за ним шел, опираясь на палку, человек такого же возраста, какой дают обыкновенно Иосифу, — страница из Евангелия, воспроизведенная кистью Джотто; та же обстановка, тот же костюм, то же небо и пейзаж. По дороге росли пальмы, подобные той, которая, по одному апокрифическому сказанию, наклонила свою верхушку до рук Христа-Младенца» [1, С. 40].
Детство Христа, как и юность сотворенного Богом мира, являются необычайно важными для творчества Гумилёва временными категориями. В его текстах неоднократно появляются такие «точки отсчета», как «священная заря бытия», «молодость мира» или «девственная юность» мира. Все эти временные категории самым тесным образом связаны с «языком девственных наименований», обретение которого является, по Гумилёву, высшей целью поэзии. «Юность мира» является сакральным временем, неподвластным греху, для Гумилёва это время, предшествующее грехопадению и изгнанию из райского сада. Детство Христа, память о котором сохраняют египетские святыни, дорого поэту, как и детский мир в целом. Образ ребенка — «веселого брата мая» — является одним из центральных в творчестве «отца акмеизма». Именно поэтому Гумилёв видит Африку прежде всего «молодым» континентом, к которому приставлен по-детски неопытный ангел.
«Детство человечества», протекавшее в райском саду, неоднократно упоминается в текстах поэта как предшествовавший мировой истории «золотой век». В связи с этим основополагающее значение для интерпретации значения «египетского текста» в творчестве Гумилёва приобретает образ каирского сада Эзбекие, которому посвящено одно из лучших ст-ний поэта. В связи с образом сада Эзбекие необходимо дать небольшую историческую справку.
Хедив Измаил, внук правителя Египта Мохаммеда Али, сделал этот необыкновенный по красоте сад центром Каира, точкой, к которой сходились линии разбитых на парижский манер бульваров. Измаил получил образование во Франции и много путешествовал по Европе: ему хотелось, чтобы Каир не уступал современным кварталам Парижа. Хедив разделил Каир на восточный и западный, задумав создать «новый Париж» на Ниле. Центром нового города он намеревался сделать Эзбекие. Этот египетский правитель реставрировал район, прилегающий к Эзбекие, и проложил два бульвара, ведшие к старому городу (Клот-Бей и бульвар Мухаммеда-Али). План Исмаила заключался в том, чтобы создать на западе столицы совершенно новый район, отделенный от старого Каира.
«Именно о саде Эзбекие Гумилёв писал Вере Шварсалон из Каира: «Каждый вечер мне кажется, что я или вижу сон или, наоборот, проснулся в своей родине. В Каире близ моего отеля есть сад, устроенный на английский лад, с искусственными горами, гротами, мостами из цельных деревьев. Вечером там почти никого нет, и светит большая бледно-голубая луна» [6,С. 62-64]. Эта цитата становится более понятной, если обратить внимание на то, что Гумилёв воспринимал Эзбекие как место паломничества, неразрывно связанное с христианскими святынями.
В этом контексте совершенно иное звучание приобретают строки из «Эзбекие»: «Но этот сад, он был во всем подобен / Священным рощам молодого мира…» [7, Т. 3, С. 162]. В этом саду, подобном райскому, есть «пальмы-Марии», величавые платаны — деревья мудрецов-друидов, водопад, похожий на единорога, встающего на дыбы («И вопопад белел во мраке точно / Встающий на дыбы единорог») [7, Т. 3, С. 162]. Не случайно именно здесь лирический герой «Эзбекие» хочет принять смерть: «О смерти я тогда молился Богу, / И сам ее приблизить быть готов» [7, Т. 3, С. 162].
Но насильственная смерть — самоубийство — в чудесном саду произойти не может, и поэтому лирический герой ст-ния дает обет вернуться в Эзбекие через десять лет, чтобы повторить обет и заслужить освобождение. Это желание найти покой в чудесном саду, подобном райскому, близка к просьбе о том, чтобы принять смерть под Священным деревом (сикиморой), прозвучавшей в ст-нии «Вступление» («О тебе, моя Африка»): «Дай скончаться под той сикиморою, / Где с Христом отдыхала Мария» [7, Т. 4, С. 12]. Лирический герой ст-ния «Вступление» уверен, что, заснув в земном раю, можно проснуться в небесном — «святых селеньях». Иного исхода в чудесном саду быть не может.
Египетский сад, подобный «священным рощам молодого мира», погружает лирического героя «Эзбекие» в «детство Вселенной», когда человек был братом, а не царем сотвореннного Богом тварного мира. «В Африке Гумилёву видится детство человечества, — справедливо заметил О. Ильинский, — Это выражение следует понимать символически. Художественный миф поэту необходим. Не следует видеть в Африке Гумилёва отзвуки руссоизма — поэт вовсе не наивен. Он знает, чего хочет. Гумилёв обладал сильным чувством природы, в своей Африке он вписывает человека в природную стихию. Он наделяет его первобытной наивностью» [9, С. 393]. Подобная «первобытная наивность» — один из элементов африканского мифа Гумилёва. Именно она позволяет соотнести детство Вселенной, протекавшее в райском саду, на заре Творения, и детство Христа, неотделимое от бегства Святого Семейства в Египет и отдыха под Священным деревом. «Неопытный ангел», приставленный Всевышним к Африке, о котором упоминается в ст-нии «Вступление» («О неопытном думают ангеле, / Что приславлен к тебе, безрассудной» [7, Т. 4, С. 12]) — это ангел-ребенок, чья детская душа подобна молодости африканского континента.
«Через эту первобытную наивность поэт раскрывает себя самого и чувствует свое братство с этим черным Адамом», — продолжает О. Ильинский. — Он ведь и себя вписывает в африканский пейзаж… (…) Для Африки Гумилёва характерны библейские ассоциации» [9, С. 394]. Одна из этих «библейских ассоциаций» — египетские «маршруты» Святого Семейства и неоднократное упоминание об отдыхе Христа и Марии под Священным деревом.
Интересно, что, в отличие от символистов, Гумилёв обращает внимание читателей не на Гелиополис как центр солнечного культа, а на расположенные близ Гелиополя христианские святыни. Символистский «египетский текст», напротив, был сосредоточен на Египете языческом и, в частности, на Гелиополе как на священном городе, где находился храм бога солнца Ра. Гумилёв вводил в русскую поэзию «другой Египет», причем, важнейшими элементами этого «другого Египта» являются христианские святыни.
______________
Примечания
[1]. Датировка стихотворения «Рощи пальм и заросли алоэ» является дискуссионной (1907 или 1908 гг.?). Датировка 1908-м годом мотивируется тем, что автограф стихотворения содержался в письме Гумилёва к Брюсову от 30 ноября 1908 г. Однако ссылка на письмо к Брюсову не может служить доказательством того, что стихотворение написано именно в 1908-м. В записных книжках А. А. Ахматовой читаем: «Это лекарство — «Рощи пальм» (1908?). Сопоставить это стихотворение с «Эзбекие», 1918 (Париж), когда новая несчастная любовь напомнила ему то, что было с ним ровно десять лет назад, т. е. в 08 году» [8, С. 279].
Литература
1. Андреевский В. Египет, Александрия, Каир, его окрестности, Саккара и берега Нила до первых порогов. СПб., 1886. С. 40.
2. Белова Г. А., Шеркова Г. А. Русские в стране пирамид. Путешественники. Ученые. Коллекционеры. М.: Алетейя, 2003. С. 90.
3. Белый А. Символизм. Книга статей. М., 1910. С. 49.
4. Белькинд Е. Л. Блок и Вячеслав Иванов. Блоковский сборник. II. Тарту, 1972, С. 365—367.
5. Бердяев Н. А. Философия свободного духа. М., 1994.
6. Бронгулеев В. В. Посредине странствия земного. Документальная повесть о жизни и творчестве Н. С. Гумилёва. Годы: 1886–1913. М., 1995, С. 156.
7. Гумилёв Н. С. Собрание сочинений в 10 т. М.: Воскресенье, 1999–2007.
8. Записные книжки А. Ахматовой (1958-1966). М.; Torino: Einaudi. 1996. С. 100.
9. Ильинский О. Основные принципы поэзии Н. Гумилёва // Записки русской академической группы в США. 1986. № 19. С. 393–394.
10. Картавцов Е. Э. По Египту и Палестине. Путевые заметки. СПб., 1896.
11. Лукницкий П. Н. Встречи с Анной Ахматовой. Том I 1924–25 гг. Paris: YMCA-Press., 1991. С. 165.
12. Норов А. Путешествие по Египту и Нубии. В 2-х частях. СПб., 1853. С. 50.
13. Оцуп Н. О Гумилёве и классической поэзии // Цех поэтов. Книга третья. Петроград, 1922. С. 46.
14. Письма Гумилёва Вячеславу Иванову и В. К. Шварсалон из абиссинского путешествия. Неизвестные письма Н. С. Гумилёва / Публикация Р. Д. Тименчика // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. Т. 46. № 1. С. 62–64, 68–69.
15. Тураев Б. А. История Древнего Востока. Минск: Харвест, 2004. С. 7.
16. Фламарион К. История неба. М., 1994, С. 120.
17. Цех поэтов. Книга третья. Петроград, 1922. С. 11.
Поделиться: