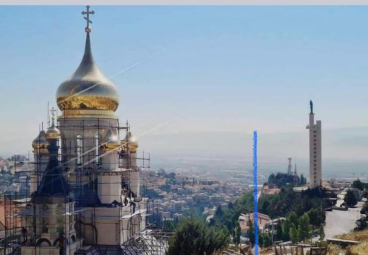И. А. Бунин: религиозность в условиях страстного сознания. И. П. Карпов
Эмоциональная основа авторского сознания
Впечатлительность
Главная
особенность бунинского стиля (того, что на поверхности повествования, в
самом словесном изображении) сразу была понята современниками писателя.
Известны слова З. Гиппиус: “король изобразительности”.
Так оно и есть – и в стихах: “Лес, точно терем расписной...” (“Листопад”), и в прозе, вплоть до последних рассказов.
Бунин не был бы Буниным без необычайной впечатлительности. Жизненную свою впечатлительность и связанную с ней словесную изобразительность он рано осознал в себе.
Эти два момента – жизненный и собственно художественный – слились в нем воедино. Ими он и работал как ценностно-смысловыми “моментами мира”. Их он культивировал, им служил до самой смерти. Под них “подверстал” и эстетическую программу, и поэтику своих произведений. Отсюда – определенный отбор жизненных коллизий, отсюда – своеобразие религиозных представлений, свой образ Льва Толстого, своя концепция любви.
Бунин из года в год размышлял над своеобразием своего мировосприятия.
Есть и у меня эта беда” (“Окаянные дни”, запись 11 марта 1918 года) (Бунин 1990: 262).
“Я как-то физически чувствую людей” (Толстой). Я в с е физически чувствую. Я настоящего художественного естества. Я всегда мир воспринимал через запахи, краски, свет, ветер, вино, еду – и как остро, Боже мой, до чего остро, даже больно!” (дневниковая запись 9/22 января 1922 года) (6: 437).
В каждом отдельном случае необходимо понять “качество” этой впечатлительности (авторскую эмоциональность) и – далее – ее направленность на те или иные сферы бытия.
Так в романе говорится о том же, о чем и в дневниковых записях, и далее эта особенность бунинского автобиографического персонажа называется: “обостренным чувством жизни и смерти” (5: 23), “повышенной впечатлительностью” (5: 27), “не совсем обычной впечатлительностью”(5: 56), “повышенной восприимчивостью к свету и воздуху, к малейшему их различию” (5: 141).
Какого же “качества” эта впечатлительность (и далее – на что она направлена)?
Страстность
Первая поездка юного Арсеньева в город:
Первые впечатления от предметного мира:
Воспоминание о кинжале:
Воспоминание о сабле:
Начало восприятия женщины (девочки Саши):
Чтение произведений Пушкина, Гоголя:
Слово “страсть” становится ключевым в романе: “страсть ко всякому самоистреблению”, страсть к девочке Анхем, “горькая страстность”, “кочевая страсть”.
В значении слова можно выделить по крайней мере три оттенка: страсть как сильно выраженное чувство; страсть как чувство одновременно восторженное и радостное, тяжелое и “томящее”; страсть как сладострастие, как “любовь” “с преобладанием чувственного влечения”, как о том говорят наши толковые словари.
В словаре Даля: страсть – “страдание, мука, маета, мученье, телесная боль, душевная скорбь, тоска”. Этот оттенок слова будет важен для нас при анализе религиозных представлений Бунина.
Пока же отметим, что авторскую эмоциональность, воплощенную в романе и рефлектируемую автором, мы вправе так и обозначить – как страстную – в указанных трех оттенках значения слова.
Но преобладает в романе смысловое наполнение “страсти” как страсти-страдания, радости-горя, восторга-отчаяния.
Особая восприимчивость была для Арсеньева (и автора) источником и наслаждений и страданий, последнее усугублялось непониманием со стороны близких людей.
“Этого не понимали в Толстом, не понимают и во мне...” Арсеньева – тоже “не понимают”... Арсеньев обращается к любимой женщине – Лике:
Лика не понимает, когда “слишком много описаний природы”. Для Арсеньева – “нет никакой отдельной от нас природы”, “каждое малейшее движение воздуха есть движение нашей собственной жизни” (5: 183).
Авторское сознание, воплощенное в романе, – по своей эмоциональной основе – страстное. Тип страстности – антиномичный, выражающийся в стилистике оксюморона.
Страсть-страдание
Характерной особенностью страстного сознания является его подвижность, смена объектов страсти, определенное эмоциональное состояние – страдание.
Арсеньев постоянно переезжает с одного места на другое, ищет для себя все новых и новых ощущений, новой пищи для своих обостренных чувств – осязания, обоняния, зрения, слуха. В одном из разговоров с Ликой он объясняет эту особенность, называя себя “бродником”.
“Все это так взволновывает мою вечную жажду дороги, вагонов и обращается в такую тоску по ней, по той, с кем бы я мог быть так несказанно счастлив в пути куда-то, что я спешу вон, кидаюсь на извозчика и мчусь в город, в редакцию. Как хорошо всегда это смешение – сердечная боль и быстрота!” (5: 201).
Неутоленность движет персонажем – с места на место, от одной женщины к другой, а писателя – от одного произведения к другому, к вечной мольбе: “Господи, продли мои силы...”.
Постоянному движению соответствует ощущение преходящности жизни. И в то же время – ощущение родства, связи – с землей, родом, культурной традицией. Арсеньев чувствует себя причастным великому, вечному. Отсюда – чувство гордости, избранности. Но Арсеньев причастен и материальному, временному, тому, что должно умереть. Отсюда – тоска, одиночество.
В эмоциональном мире Арсеньева сложно переплетаются радость, восторг, восхищение – и отчаяние, тоска. Одно является обратной стороной другого.
Человек, обладающий страстным сознанием, оказывается существом страдающим – прежде всего из-за своей принципиальной неудовлетворенности или удовлетворенности кратковременной, постоянной ненасытности.
“...Я испытал чувство своей страшной отделенности от всего окружающего, удивление, непонимание, – что это такое все то, что передо мной, и зачем, почему я среди всего этого?” (5: 215);
“В обществе я, действительно, чаще всего держался отчужденно, недобрым наблюдателем, втайне даже радуясь своей отчужденности, недоброжелательности, резко обострявшей мою впечатлительность, зоркость, проницательность насчет всяких людских недостатков” (5: 183).
Как видим, и отношения с людьми приносятся в жертву все тому же Молоху – впечатлительности, страстности.
В этическом смысле страстное сознание замыкается на себе, оно эгоистично по своей природе и эгоцентрично: мир как мое переживание, как мое наслаждение и моя мука – такова экзистенциальная основа страстного сознания того типа авторства, который воплощен в произведениях Бунина.
“Языческая стихия”, буддистская ориентация
Страсть в христианском пониманииМогло ли бунинское сознание впитать в себя и принять христианство, в котором страсть – “болезнь, недуг, страдание, а в отношении к душе – необузданное влечение ко греху, сладострастие”, “напасть, бедствие, скорбь”?
Как проповедовал преподобный Иоанн, три главных страсти человек должен преодолеть – объедение, сребролюбие и тщеславие. Кто победит эти три страсти, тот может победить и остальные пять – блуд, гнев, печаль, уныние, гордость. Всякий грех проникает в душу через прилог (“помысел о вещи”) и сочетание (душа уже как бы беседует с предметом). Страсть определяется преподобным Иоанном как “самый порок, от долгого времени вгнездившийся в душе, и чрез навык сделавшийся как бы природным ее свойством, так что душа уже произвольно и сама собою к нему стремится” (Иоанн 1990: 187, 139).
Как предохраниться от прилога: “обуздывать” – очи, уши, обоняние, вкус, избегать “касания телес”...
Уже из этих положений видно, что следовать им означало для Бунина отказаться от себя. Не обуздание, но максимально полное выражение себя – к этому стремится автобиографический персонаж романа “Жизнь Арсеньева. Юность”, повторяя вслед за Гёте: всякое искусство чувственно (5: 236).
“Языческая стихия”
Бунинское чувственно-страстное восприятие действительности, бунинская “плотскость” изображения позволяют говорить о “языческой стихии” в творчестве писателя.
В следующем высказывании представлены мнения целого ряда людей – от лично знавших Бунина до современного исследователя.
«Следует, очевидно, согласиться с Б. К. Зайцевым, что натуре Бунина присуще было в высокой степени нечто языческое: чувство слиянности с природой, с вещественным, телесным миром и страстный протест против неизбежной смерти, конца “земного” существования, гибели “я”. Как отмечает В. Н. Муромцева-Бунина (дневниковая запись от 9 марта 1939 года), “он верит в божественное начало в нас, а Бога вне нас не признает еще”. Тот же Б. К. Зайцев рассказывает: “Средиземное море! Море Улисса – но мы об Улиссе не думаем. Иван не купается. Просто сидит на берегу, у самой воды, любит море это и солнечный свет. Набегает, набегает волна, мягкими пузырьками рассыпается у его ног – он босой теперь. Ноги маленькие, отличные. Вообще тело почти юношеское. Засучивает совсем рукава рубашки.
– Вот она, рука. Видишь? Кожа чистая, никаких жил. А сгниет, братец ты мой, сгниет... Ничего не поделаешь.
И на руку свою смотрит с сожалением. Тоска во взоре. Жалко ему, но покорности нет. Не в его характере. Хватает камешек, запускает в море – ловко скользит галька эта по поверхности, но пущена протестующе. Ответ кому-то. “Не могу принять, что прахом стану, не могу! Не вмещаю”. Он и действительно не принимал изнутри: головой знал, что с рукой этой будет, душой же не принимал”. Здесь скрытое богоборчество его, языческая стихия» (О. Н. Михайлов) (6: 637–638).
Интереснейшие свидетельства и рассуждения буниноведа, однако сама проблема “языческой стихии” в личности и творчестве Бунина только улавливается, остается на уровне перечисления точек зрения современников писателя.
Этой позицией ограничусь и я, пока не имея возможности исследовать текстуальное воплощение темы, ибо, думается, тогда нужно было бы обратиться к сопоставительному анализу бунинских текстов и текстов “языческих”.
Только замечу, что “языческая стихия” Бунина – это не область языческих представлений, это именно качество мировосприятия, авторской абсолютизации природно-предметного мира. Это та область, где сходятся, говоря словами Бунина, древняя подсознательность и современная сознательность. В речи авторолога такие суждения, конечно, носят характер метафоры, интуитивного предопределения собственно исследования.
Буддистская ориентация
Страстное отношение к миру Арсеньева постоянно оборачивается страданием, стремлением ко все новым и новым впечатлениям, перемене мест, женщин, погружением в контрастные эмоциональные состояния: от радости – к тоске, от чувства причастности Вечному – к одиночеству.
Чтобы как-то “овладеть”, понять, оправдать эту особенность своего “я”, Бунин обращается к буддистским идеям.
Первая глава романа – изощренная смесь русского, христианского слова – и буддистских понятий. С одной стороны: Духов день, церковь (вероятно, православная), небесный град, молитва, пращуры, цитаты в церковно-славянском стилистическом варианте. С другой – целая программа буддистской направленности.
Начало романа напоминает тональность преданий о Будде, Гаутаме, встречающимся с несчастьями, болезнями, смертью.
Бунин утверждает идеи о переселении душ, о конечном слиянии достигшей совершенства души с “Отцом всего сущего” – вполне в духе ведийской религии древних обитателей Цейлона и индусов.
В жизни Арсеньева этих идей не было. Он рос в православной среде. Зрелый Бунин окрашивает повествование “азиатско-буддийскими” (Б. Зайцев) оттенками, вырабатывая из разных религий свою собственную религиозную “теорию”, которая бы соответствовала его страстной натуре.
В работе “Освобождение Толстого” Бунин высказывается более определенно.
«– Великий мученик или великий счастливец такой человек? И то и другое. Проклятие и счастье такого человека есть его особенное сильное Я, жажда вящего утверждения этого Я и вместе с тем вящее (в силу огромного опыта за время пребывания в огромной цепи существований) чувство тщеты этой жажды, обостренное ощущение Всебытия» (6: 40–41).
“Это люди, одаренные великим богатством восприятий, полученных ими от своих бесчисленных предков <…>. Отсюда и великое их раздвоение: мука и ужас ухода из Цепи, разлука с нею, сознание тщеты ее – и сугубого очарования ею” (6: 42).
К такой породе людей – достигших совершенства, выходящих из цепи, – относятся Будда, Соломон, Толстой... Конечно, к “царственному племени” Бунин причислял и себя.
Эти бунинские высказывания важны для понимания всего творчества писателя, понимания его “концепции человека”, о чем уже размышляют многие критики.
Книга о Толстом – образец того, как человеческое мышление может трансформировать любой жизненный материал в сторону своего идеологемного центра, в данном случае – в сторону идеи Всебытия. Причем, логическое обоснование безукоризненно следует за эмоциональным опытом. Субъект высказывания пользуется целым набором понятий, совершенно не заботясь о каком-либо их обосновании: что значит – “чувствовать” свое время или чужое? Что значит – образная (чувственная) “память”, “путь”, “подсознательность”, “сознательность” и т. д.?
Однако в приведенных цитатах Бунин – как обыденный субъект словесной деятельности – интуитивно угадывает и точно высказывает свою позицию.
По существу, здесь – полная программа жизни и творчества, определившая, точнее оправдывающая – отношения с людьми, образ жизни, абсолютизацию своего вещественного восприятия мира, сосредоточенность на себе (я – человек особой породы, я должен культивировать в себе свои способности) и так далее – вплоть до образной (чувственной) “памяти”, которой “я” обладаю, а следовательно, – “Я настоящего художественного естества...” Мое восприятие мира – мучительное и возвышенное – тоже не просто “мое” качество, но свойство людей особой породы. Не случайно и мое стремление все запечатлеть, все выразить в слове – это тоже от “жажды вящего утверждения этого Я”.
Христианство как культура
СмертьСтрастное, обостренное восприятие жизни побудило Бунина к неприятию христианского учения о смерти, о Страшном суде, о загробной жизни.
Смерть Бунин пытался преодолеть опять же чувственностью, своей связью с вещественным миром.
Смерть одного из персонажей романа, Писарева, описывается в сопоставлении с любовью Арсеньева к Анхем.
Эпизод смерти Писарева – типичный пример “переноса” писателем собственных представлений, своего эмоционального опыта на мир.
Таким образом, несмотря на эстетическое требование “писать о крышах”, избегать тенденциозности, Бунин все повествование “окрашивает” языческой стихией, буддистскими идеями. И это – даже при описании православного обряда погребения.
Христианское душерасположение иное.
“Смерть – величайшее таинство. Она – рождение человека из земной, временной жизни в вечность” (Брянчанинов 1991: 669).
Бог как радость жизни, как наслаждение ее красотой, вещественностью – это вполне доступно Арсеньеву. Бог как смерть, как существование души вне тела – это не представимо, невообразимо для него.
Идеям сотворения мира и человека, загробной жизни Бунин предпочел буддистские идеи, в пределах которых мир не сотворим, он только постигнут Буддой, и человеческая душа, пройдя “цепь перевоплощений”, соединяется с “Отцом всего сущего”.
Грех
В нравственном мире Арсеньева нет греха, вины перед людьми (хотя бы перед Ликой). Отсутствие греха диктует персонажу определенную последовательность чувств в сложных ситуациях, автору – определенный способ мотивировки чувств и поступков персонажа.
Арсеньеву вроде бы все позволено по отношению к людям, он – особая натура. В конкретных случаях Арсеньев всегда оправдывает себя. С его точки зрения, он в случае провинности может быть прощен за муки, испытанные им после совершения проступка.
Например, такова мотивировка внутреннего состояния персонажа в эпизоде убийства грача.
Это один из немногих случаев, когда упоминается слово “грех”. Если нет чувства греха, то нет и чувства вины, а значит, раскаяния, покаяния, нет страха перед смертью в ее христианском понимании.
Христианство как культура
Однако жизнь Арсеньева проходит в кругу православных обрядов, верований, описание которых составляет значительную часть повествования.
Здесь мы встречаемся с той же личностной трансформацией, авторской тенденциозностью.
Несколько раз Арсеньев посещает храмы, богослужения.
Литургия для христиан – это говение, исповедь, молитва, принятие святых Христовых Тайн. Литургия – центр христианской жизни. Бунин отдает предпочтение описанию вечерни. Главная церковная служба – литургия – описывается только один раз, причем в “заземленном” варианте: отрок Арсеньев устает от длительности службы, от многолюдности.
Духовный смысл литургии несовместим с духовной ориентацией персонажа, с теми чувствами, которые автор приписывает Арсеньеву.
Из этих канонических для Православной церкви положений видно сходство и различие в службах вечерни (всенощное бдение) и литургии, а также соответствующее обеим частям единого богослужения душерасположение.
Всенощное бдение пленяет Арсеньева прежде всего красотой обряда, т. е. эстетическим содержанием.
Соблазн – так называются в православном христианстве испытываемые персонажем состояния. Автор как повествователь даже в описании церковного пения употребляет свои излюбленные “оксюморонные” определения: рыдание – одновременно и “горестное” и “счастливое”.
Церковная служба – как мое эстетическое переживание, наслаждение, и далее: как реализация моей впечатлительности, в конечном счете, страстности – таково основное содержание эпизодов романа, посвященных изображению предстояния персонажа перед иконами.
Однако: храм, церковь – неотъемлемые части истории страны, народа, русского пейзажа, всего русского быта. И такой аспект изображения церквей, церковной службы присутствует в романе.
Дневники Бунина полны записей о посещении храмов, церквей. Например, с первого по четвертое января 1915 года Бунин посещает Марфо-Мариинскую обитель, Ваганьковское кладбище, Благовещенский собор, Зачатьевский монастырь, Троице-Сергиеву Лавру, Скит у Черниговской Божией Матери.
Это сторонний собственно церковной жизни взгляд. Не я в вере, а вера – как часть моего эстетического “я”.
Арсеньев-отрок читает жития святых, юношей молится перед иконой Божией Матери, но вера не стала основой его жизни. Нигде в романе не показана вера как действующая нравственная сила, которая бы руководила персонажем.
Бунин же, к периоду написания романа “Жизнь Арсеньева. Юность”, выработал вполне удовлетворяющую его систему религиозных взглядов, которую можно назвать системой личностного эклектизма.
Трансформация
Страстное авторское сознание в романе “Жизнь Арсеньева. Юность” стремится трансформировать традиционную для русской культуры религию, в которой оно реально существует.
Характер этой трансформации определился:
– индуистско-буддистскими идеями, составившими идеологемный центр повествования;
– христианскими элементами, изображенными в бытовом, традиционно-историческом и эстетическом аспектах.
Конечно, православный контекст всего бунинского творчества несомненен, но это контекст не вероисповедания автора, а именно – культурный контекст.
Разделение христианства как веры и христианства как культуры обусловило внутреннюю противоречивость авторской религиозной позиции. И чем сильнее русский, христианский материал, избранный для повествования, тем эта противоречивость явственнее.
Героиня “Чистого понедельника” уходит в православный монастырь, решает посвятить себя Богу, но все ее размышления о жизни, о вере – авторские (буддистские), и сама она – красавица восточного типа, подобно Аглае (одноименный рассказ), – вырожденка, т. е. человек, уже слышащий призыв “выйти из цепи”. Приведенная выше запись о посещении церквей в смысловом плане почти дословно перенесена в рассказ.
Бунин: “Все в нас мрачно. Говорят о нашей светлой радостной религии... ложь, ничто так не темно, страшно, жестоко, как наша религия. Вспомните эти черные образа, страшные руки, ноги... А стояния по восемь часов, а ночные службы... Нет, не говорите мне о “светлой” милосердной нашей религии... Да мы и теперь недалеко от этого ушли. Тот же наш Карташев, будь он иереем, – жесток был бы! Был бы пастырем, но суровым, грозным... А Бердяев! Так бы лют был... Нет, уж какая тут милостивость. Самая лютая Азия...” (Кузнецова 1995: 105).
Кузнецова: “Днем был о. Иоанн (Шаховской). После него остался какой-то след доброты, проявившийся в том, что на время как будто было прободение какой-то уже безнадежно окрепшей в душе коры. Хотела бы я знать – правда ли, что исходит что-то такое от подобных о. Иоанну людей или это нам только кажется? Но пусть даже самовнушение – люди все-таки стараются сдерживать дурное в себе, стыдятся его – значит, уже что-то достигнуто...” (Кузнецова 1995: 295).
“Вчера вечером опять о. Иоанн (Шаховской), разговоры с ним, его детский смех, заразительная улыбка, душа, чуткая и внимательная, настороженность в глазах и после всего, перед уходом – его молитва (по его желанию) за всех нас, с перечислением наших имен, потрясшая меня до внутренних слез. Делает ли он это часто или нашел нужным освятить и благословить именно наш дом?” (Кузнецова 1995: 296).
______________
Примечания
[1]. Бунин И. А. Собр. соч.: В 6 т. – М., 1987–1988. Цитирую по этому изданию с указанием тома и страниц.
Литература
Брянчанинов 1991: Брянчанинов, епископ. Слово о смерти. – М., 1991.
Бунин 1987–1988: Бунин И. А. Собр. соч.: В 6 т. – М., 1987–1988.
Бунин 1990: Бунин И. А. Лишь слову жизнь дана... – М., 1990. (Русские дневники).
Бунин 1991: Бунин И. А. Окаянные дни: Неизвестный Бунин. – М., 1991.
Всенощное бдение 1982: Всенощное бдение. Литургия. – М., 1892.
Иоанн 1990: Иоанн, препод. Лествица. – Греция, 1990.
Кузнецова 1995: Кузнецова Г. Грасский дневник. Рассказы. Оливковый сад. – М., 1995.
Православный обряд 1992: Православный обряд погребения / Ред. Карпов И. П., сост. Карасева Н. И. – Йошкар-Ола, 1992.