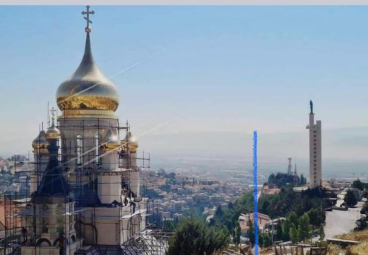Звезда Ерусалима
В былине «Сорок калик» молодой богатырь Касьян Афанасьевич держит перед богатырями-сотоварищами такую речь:
Ай не лучше ли забросить топерь войско нам великое,
Ай как ездить нам да по чисту полю, —
Ай как нам сходить-то ко граду к Еросолиму,
Ко святой святыни Богу помолитисе,
Ко Господню гробу нам да приложитисе,
А во Ердань реки окупатисе,
Во своих грехах да нам прощатисе.
А столько, вы сильнии вы богатыри,
А в том класть надо нам заповедь себе великая,
Ай чтобы не красть нам да бы не воровать,
Ай на женскую прелесть не упадывать,
И не кровавить нам своих рук да больше
век да богатырских /1/.
Ай как ездить нам да по чисту полю, —
Ай как нам сходить-то ко граду к Еросолиму,
Ко святой святыни Богу помолитисе,
Ко Господню гробу нам да приложитисе,
А во Ердань реки окупатисе,
Во своих грехах да нам прощатисе.
А столько, вы сильнии вы богатыри,
А в том класть надо нам заповедь себе великая,
Ай чтобы не красть нам да бы не воровать,
Ай на женскую прелесть не упадывать,
И не кровавить нам своих рук да больше
век да богатырских /1/.
В этой покаянной, а больше взыскующей настоящей, высшей правды речи уже слышится проповеднический пафос русской литературы. И он не от морализирующего учительства, а от душевной муки — как устроить собственную жизнь по-Божески, как соблюсти себя в чистоте, чего никак не удается.
И вот идет русский человек в Святой град, ко Гробу Господню, ища последней истины. На этом пути, не прямом и не легком, он и становится очарованным странником, скитальцем, взыскующим Града.
И вот идет русский человек в Святой град, ко Гробу Господню, ища последней истины. На этом пути, не прямом и не легком, он и становится очарованным странником, скитальцем, взыскующим Града.
В своем простодушии он верит, «что все святое и великое находится на их святорусской земле: на ней стоит и святой град Иерусалим, в ней и святая София, сиречь, Святая Святых…» /2/, как это замечал Ф. И. Буслаев, публикуя «Повесть града Иерусалима».
Подобное отношение к Святому граду, как к собственному, родному, отзывается в державинской оде «На взятие Измаила» не без воодушевленного преувеличения:
Подобное отношение к Святому граду, как к собственному, родному, отзывается в державинской оде «На взятие Измаила» не без воодушевленного преувеличения:
Росс рожден судьбою…
Отмстить крестовые походы,
Очистить Иордана воды,
Священный гроб освободить!
Отмстить крестовые походы,
Очистить Иордана воды,
Священный гроб освободить!
Но это державная размашистость екатерининского века.
А из былины слышится призыв к чистоте душевной, к покаянному паломничеству, к отчаянному уже бегству от греха. И ближе к этому былинному порыву Пушкин, сокрушающийся: «Напрасно я бегу к сионским высотам, Грех алчный гонится за мною по пятам…»
Устремленность к истине — Христу, покаяние не самоуничижительное, а взыскующее — главное в поэзии, обращенной к Святой земле, к ее христианскому свету. Эта тема в русской литературе, с ее тягой к главным, «последним» вопросам, естественна, как и связь со Святой землей в той или иной степени всей нашей культуры, культуры прежде всего христианской.
Вспомним, ведь и рублевская Троица явилась нам под сенью Мамврийского дуба, дуба Авраама, росшего невдали от Хеврона.
Об этом еще твердо помнил Сергей Есенин:
Древняя тень Маврикии
Родственна нашим холмам,
Дождиком в нивы златые
Нас посетил Авраам.
Родственна нашим холмам,
Дождиком в нивы златые
Нас посетил Авраам.
Сто с лишним лет тому назад В. Н. Хитрово отмечал, как само собой разумеющееся, что «с первым детским лепетом привыкли мы произносить священные имена: Иерусалима, Иордана, Назарета, Вифлеема и имена эти, в нашем детском воображении, сливаются как-то с родственными для нас именами: Киева, Москвы, Владимира и Новгорода» /3/. И не он один, если С. И. Пономарев напоминал, что «наш Киев называется русским Иерусалимом»/4/, и спрашивал читающую публику: «Можно ли думать, что Россия привязалась к Палестине гораздо большими нитями, чем всякое другое государство?» /5/
О том же спрашивал себя и читателя И. А. Бунин: «Есть ли в мире другая земля, где бы сочеталось столько дорогих для человеческого сердца воспоминаний?» /6/
Эти вопросы не были сугубо риторическими. Еще в Никоновской летописи есть сведения о том, что Владимир посылал для испытания веры послов и в Иерусалим. А с XI века русские люди ходили в Святуюземлю, часто давали обеты такого паломничества. И хотя ходу туда было полтора года, столь многие отправлялись в долгое и непростое путешествие, что в XII веке у одного из пастырей вырывается: «…в Иерусалим не велю ити; еде велю доброму ему быти».
В те уже памятные нам времена появляются по-своему поэтические описания паломничеств— хожений в Святую землю. Как повсюдно они читались, говорят дошедшие до нас многочисленные списки (152!) самого первого из известных и самого выразительного — хожения Даниила, игумена одного из черниговских монастырей, совершенного в 1104–1107 годах.
Тот же В. Н. Хитрово пишет о том, какое огромное влияние «имеют на русский народ со времен еще св. Феодосия печерского странники из Иерусалима. Расходясь по возвращении в Россию, до отдаленнейших ее окраин, они желанные гости в любой крестьянской избе, где стар и млад заслушиваются их рассказов» /7/.
В этих с замиранием выслушиваемых рассказах Святая Русь и Святая земля оказывались рядом, незримо соединялись, и вот уже Спаситель шел неведомыми русскими тропами, рождая трогательные апокрифы и духовные стихи.
В сказочной «географии» была своя правда, потому что получить «билет в Индию духа» бывает куда труднее, чем совершить «хожение за три моря». Об этом выразительно сказано Даниилом: «Блажени же видевше вероваша, треблаженки не видевше веровавше».
И если в древнерусской литературе, еще не секуляризированной, хранящей непосредственный, ясно религиозный взгляд на мир, «хожедния» представляют собой географическое описание, путевой дневник и детальный путеводитель по Святым местам и в то же время поэтическое повествование и не лишенную дидактики проповедь, то новое время предстает перед нами людьми и книгами куда менее цельными, хотя и не столь душевно растерянными, как наше.
Но новая литература и не столь канонична, она свободней и разнообразней, и с мирской суетливостью чаще говорит о живом восприятии, с красками и полутонами, с бытовыми пустяками, с теми ощущениями зноя пустыни, молитвенной тишины иудейских кряжей, сухой каменной пыли, чтобы представить Христа живым и страдающим.
Русское паломничество в Палестину никогда не прекращалось, то уменьшаясь, то увеличиваясь. Если в XII веке путь до Иерусалима грозил опасностями и занимал до полутора лет, то к середине XIX века туда можно было добраться менее чем за две недели. И многочисленные паломники, путешественники делали духовную связь со Святой землей жизненно реальной, даже и обыденной.
Но вот описания путешествий к святым местам XVIII века, например, «Пешеходца» Василия Григоровича-Барского или лейтенанта Российского флота Сергея Плещеева уже такой популярности или значения, как «хожения», не имели.
И все же связь сугубо духовная, со Святой землей всегда была более глубокой и значительной. Хотя бы потому, что не только книги Ветхого и Нового Заветов, вся святоотеческая литература, но и любая церковная служба неотделима от земли, явившей Христа.
В русской поэзии XVIII века, завороженной псалмопевцем Давидом, главное, торжественное место занимают духовные оды. С них по традиции поэты открывали сборники своих сочинений. В них вдохновенно размышляли о насущных проблемах бытия — о Боге, о жизни и смерти, о предназначении человека.
Выразительны заглавия: «Стихотворения духовные» А. П. Сумарокова, «Духовные стихотворения» Н. П. Николаева, «Оды Божественные» В. К. Тредиаковского, «Оды духовные» М. В. Ломоносова и В. Н. Майкова. Совсем другие названия появляются в конце достославного века европезирования Руси. Характерно: «Мои безделки» Н. М. Карамзина. Еще твердо и однозначно понимание высокого духовного предназначения слова, поэзии. «Философический» XVIII век в серьезности своих размышлений не мог уйти ни от рационализма, ни от канонической иерархичности в восприятии мира.
Ломоносов рассуждает о «Божьем величестве», удивляясь открывающейся бездне мира и Бога: «Звездам числа нет, бездне дна», Державин говорит о Боге, как о бездне: «Тебе числа и меры нет». Но они как бы избегают обращения к человеку, творению Божьему, тоже вмещающему в себе бездны, хотя и понимают, что он – «связь миров повсюду сущих».
В поэзии восемнадцатого века Бог прежде всего одна Его ипостась – Бог Отец, Вседержитель, Творец. И понятно, почему гениальный Державин в родном столетии пишет оду «Бог» (1784), а в карамзинском, в наступающем пушкинском времени оду «Христос» (1814).
XVIII век принимает человеческую греховность как данность, без рефлексий и мучений, без самоедства. Его речи полны воодушевления, но слишком часто холодноваты. Потому и слог их книжно-торжествен, язык подчеркнуто архаичен. И Пушкин заговорил живо и свободно не потому, что его поколение стало изъясняться как-то совсем по-иному, чем державинское. Нет, говорили они на одном языке. Но уже мыслили, страдали и писали — по-разному.
По-разному они смотрели и в сторону Святой земли. И не только потому, что она приблизилась, до нее стало проще добраться и число паломников, в конце XVIII столетия ежегодно редко превосходившее несколько десятков, в 1820 году уже доходило до 200, а в сороковых годах — до 400 в год.
В 1933 году в статье «Религиозность Пушкина» С. Франк замечал, что «из всех вопросов „пушкиноведения“ эта тема менее всего изучена»/8/. В сущности, ничего не изменилось до сих пор, хотя сегодня мало кто станет говорить о безрелигиозности Пушкина. Его стремление в зрелые годы «к сионским высотам» отзывается во многих его стихотворениях, когда поэт хочет надеяться, что, «кажется, прошли… дни горьких искушений». Вспомним строки хрестоматийного «Отцы пустынники и жены непорочны…»:
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.
В 1834 году Пушкин из Болдина пишет жене о чтении Библии. Это чтение было уже иным, чем прежде, хотя библейские мотивы, аллюзии и цитаты из Священного писания встречаются реже или чаще в произведениях всех периодов его творчества.
Проявлял поэт интерес и к Святой земле, ее истории, читал записки паломников.
В 1832 году он пишет так и не оконченную рецензию на получившее широкую популярность «Путешествие ко Святым местам в 1830 году» А. Н. Муравьева. В ней Пушкин цитирует путевые записки Д. В. Дашкова «Русские паломники в Иерусалиме», упоминает Шатобриана, как автора «Путевых записок от Парижа до Иерусалима»… И отмечает: «С умилением и невольной завистью прочли мы книгу г. Муравьева» /9/.
Как всегда у Пушкина, слово его искренно, пережито, многозначно. За его «невольной завистью» слышится и горечь человека, ни разу не выпущенного за границы отечества, и почтительное восхищение даром простодушной, лишенной тревожных сомнений веры, и щедрая зависть к паломнику, который «посетил св. места, как верующий, как смиренный христианин» /10/.
А. Н. Муравьев вспоминал: «Жуковский и Пушкин наиболее хвалили мою книгу: первый — потому, что принимал во мне участие, последний же — от того, что чувствовал себя виноватым за эпиграмму, написанную против меня еще в 1826 году /11/. Зимою нечаянно встретил я его в Архиве Министерства, и не узнал, но он первый ко мне устремился и сказал: „До сих пор не могу простить себе глупой моей эпиграммы. Я был весьма тронут, когда услышал, по скончании войны, что вы поехали в Иерусалим, и тогда же написал для вас стихи, в таком смысле, что когда Цари земные, заключая мир, позабыли Святой Град, один лишь безвестный юноша вспомнил о нем и пошел поклониться Гробу Христову“. Я был тронут до слез и благодарил знаменитого поэта за его утешительное слово, которое так прямо вытекло из его благородной души. Пушкин обещал мне отыскать стихи свои, но сколько ни рылся в бумагах, не мог найти их; написать же новые, как бы с подогретыми чувствами, было странно; так они и пропали» /12/.
Обращавшиеся к этим воспоминаниям пушкинисты считают, что мемуарист скорее всего запамятовал и поэт говорил о своей рецензии, а не о стихах. Может быть. Но столь же резонно предположить и то, что Пушкин действительно набросал подобные стихи еще до появления «Путешествия ко Святым местам», как выходит по словам Муравьева, а в рецензии воспользовался сюжетом затерявшихся стихов.
Успех книги А. Н. Муравьева, так или иначе вдохновившего другого великого поэта, М. Ю. Лермонтова, на его «Ветку Палестины», обратил внимание общества к Святой земле и как к предмету литературы, и как к христианской святыне, истоку новой цивилизации, по словам Пушкина, «забытом христианской Европою для суетных развалин Парфенона и Ликея»/13/. Хотя в недавнее еще время для образованного европейца, каким был Н. И. Гнедич, античная колыбель человечества и Святая земля естественно связывались в единую историческую цепь.
В послании «К К. Н. Батюшкову» (1807) Гнедич призывал друга-поэта:
Туда, туда, в тот край счастливый,
В те дали солнца полетим,
Где Рима прах красноречивый
Иль град святой Ерусалим.
В те дали солнца полетим,
Где Рима прах красноречивый
Иль град святой Ерусалим.
Путешествуя по Европе, посещает Италию А. С. Норов, переводит Вергилия и Горация, Петрарку и Ариосто, сокрушается в «Послании Панаеву» (1821):
Лизитрой ныне Спарта стала,
И Алькоран дает закон,
Где вера чистая сияла
И Бога прославлял Платон!
И Алькоран дает закон,
Где вера чистая сияла
И Бога прославлял Платон!
А в 1834—1836 годах совершает паломничество в Палестину и Иерусалим и потом издает (вою незаурядную книгу «Путешествие ко Святым местам» (1838—1854)
Этот путь через античность к христианству в каком-то смысле путь каждой европейской культуры, всякий раз как бы заново переживающей путь от язычества к христианству.
А Рим и Иерусалим, Вечный город и Святой град, в русской культуре символы не случайные, осмысленные и не раз становившиеся рядом.
Эта историософская параллель возникает у первого европейского знатока античности, у Петрарки, как бы между прочим, в IV сонете, где он говорит, что «Бог оказал своим рождением милость не Риму, который превыше всего, но Иудее, стремясь отметить смиренность» (дословный перевод).
В русской культуре путь от Рима до Иерусалима был путем духовных исканий, раздумий, постижений. Звезда Иерусалима делала этот сравнительно небольшой в XIX веке, грязноватый, захолустный город Османской империи со всем его смирением духовно притягательным и на фоне пышного папского Рима.
Так любивший и так живописно описавший Рим Н. В. Гоголь, перед окончательным возвращением в "Россию посетивший Иерусалим, признается позднее В. А. Жуковскому: «Видел я, как во сне, эту землю!» (13)
В. В. Розанов писал в тяжком 1918 году: «Мне мелькает мысль о сходстве исторической роли Гоголя с исторической ролью Петрарки. Оба они тяжелым вздохом вздохнули по античном мире» /14/.
Гоголь увидел Иерусалим как во сне, но и игом сне он увидел со всеми подробностями на Элеонской горе «след ноги Вознесшегося, чудесно вдавленный в твердом камне, как бы в мягком носке, так что видна малейшая выпуклость и впадина необыкновенно правильной пяты» /15/. Эти подробности Гоголь лаконично, но с выразительной детальностью сообщил Жуковскому, отвечая на просьбу поэта: «Мне нужны локальные краски Палестины. Ты ее видел, и видел глазами христианина и поэта… Передай мне спои видения… я бы желал иметь перед глазами живописную сторону Иерусалима, долины Иософатовой, Элеонской горы, Вифлеема…» /16/.
И гоголевские видения, как во сне, в своей им разительной пластике были конечно же видениями поэтическими.
В. Л. Жуковский в 1850 году закончив перевод «Одиссеи», в том же письме писал Гоголю: «Хотелось бы пропеть мою лебединую песнь, хотелось бы написать моего „Странствующего жида“/17/. Для этого-то замысла и понадобилось поэту „иметь перед глазами живописную сторону Иерусалима“. И в его поэме Иерусалим был увиден духовным зрением с той же выразительностью и вдохновением, как во сне, хотя и в другом совсем, чем гоголевский, во сне менее окрашенном собственными тревогами и сомнениями, но и не умиротворенном, не благостном:
Народ вокруг Голгофы за стенами
Ерусалимскими столпился. Город
Стал тих, как гроб.
Ерусалимскими столпился. Город
Стал тих, как гроб.
Сама звукопись опорных слов — Голгофа — город — гроб — передает те страшные, таинственные минуты.
Средневековая легенда об Агасфере, столь популярная у немецких романтиков, негромко, но по-своему прозвучала и в русской поэзии. Правда, пути Агасфера на земле нашей поэзии оказались короткими, какими-то обрывистыми.
В. А. Жуковский, больной, слепнущий, просящий камердинера прочесть ему рукопись, умер, недописав своей поэмы. Осталась незаконченная поэма В. К. Кюхельбекера. Э. И. Губер перед смертью успел написать лишь вступление.
Поэта Е. Бернета (А. К. Жуковского) „Вечный жид“, напрямую со знаменитым сюжетом не связанная, после первой публикации („Библиотека для чтения“, 1839) оказалась забыта. Мало кто вспомнит сегодня и рапсодию „Агасфер“ В. Г. Тана-Богораза.
Образ Иерусалима в поэмах Жуковского и Кюхельбекера увиден каждым поэтом по-своему, и в то же время, он одухотворенно един, и нередко их поэтические строки перекликаются. Перекличка вызвана не только обращением к одному источнику, но и общностью романтического взгляда.
Сравним.
Жуковский:
… над храмом,
Чернели тучи, с запада, с востока,
И с севера, и с юга,—в одну густую
Слившиеся тьму…
Вдруг крест-на-крест
Там молнией разрезалася тьма…
Ерусалим затрепетал — и весь
Внезапно потемнел…
Чернели тучи, с запада, с востока,
И с севера, и с юга,—в одну густую
Слившиеся тьму…
Вдруг крест-на-крест
Там молнией разрезалася тьма…
Ерусалим затрепетал — и весь
Внезапно потемнел…
Кюхельбекер:
…черный облак быстрый ход простер
И преждевременною тьмою нощи
Грозит задернуть холм, и дол, и рощи,
И град, то погасающий, то вдруг
Златимый белым блеском…
Весь мир бесцветной ризой мглы объят.
Вдруг молния…
И преждевременною тьмою нощи
Грозит задернуть холм, и дол, и рощи,
И град, то погасающий, то вдруг
Златимый белым блеском…
Весь мир бесцветной ризой мглы объят.
Вдруг молния…
Оба фрагмента связаны с евангельским повествованием: „… и сделалась тьма по всей земле до часа девятого. И померкло солнце, а завеса и храме раздралась посредине…“ (Лука, XXIII, 44—45)
Все происходящее в Иерусалиме, сама его евангельская топонимика так или иначе участвуют в поэтическом действии. И там, где появляется образ Христа, не может быть просто городского пейзажа, просто романтической декорации, потому что евангельские реалии и символы вносят в стихотворный текст собственную многозначность и духовную трепетность.
В русской поэзии среди многочисленных стихотворений на евангельские сюжеты наиболее характерны те, в которых образ Христа соединяется со стремлением задать себе и читатели» испытующие вопросы. Особенно в 60—80-е годы прошлого века.
Эти вопросы заведомо могут быть такими, что человеческие ответы на них невозможны, на которые сам поэт, мучающийся ими, может отвечать лишь сопереживанием, сочувствием, одухотворением. Но каждый автор воссоздает образ Христа в меру своего таланта, духовного постижения. В «Молении о чаше» И. С. Никитина Он декларативен в своих вопросах:
Я за врагов Моих молился,
— И надо Мной Ерусалим,
Как над обманщиком, глумился!
Народу мир Я завещал,—
Народ судом Мне угрожает…
— И надо Мной Ерусалим,
Как над обманщиком, глумился!
Народу мир Я завещал,—
Народ судом Мне угрожает…
А у А. Н. Апухтина, в его «Молении о чаше», вопрошающий Христос полон человеческого, но пронзительного в своей трогательности недоумения:
…Как не могли вы
Единого часа побдети со мной?
Единого часа побдети со мной?
Не обходится без резонерства В. Г. Бенедиктов в «Ночной беседе»:
Человек! Вотще твои стремленья
К благодатной манне обновленья…
К благодатной манне обновленья…
Но искренность возвышенного чувства, взволнованная интонация зачастую делают и риторические упрощения вполне поэтическими.
Иерусалим живет в стихах, воссоздающих евангельские события, как город великого и таинственного религиозного действа, которое поэтическое зрение делает ближе и понятнее, оставаясь для верующих людей столь же высоким и таинством.
То очерченный одним скупым штрихом, то показанный в живописных подробностях, Святой город присутствует во многих стихотворных произведениях не только как фон евангельских событий, а как подлинный участник всей человеческой истории.
В 1850 году в Иерусалим едет единственный из доживших до седин поэт пушкинской плеяды П. А. Вяземский.
Едет он, как и многие русские паломники, на Пасху. Останавливается у русского консула, однокашника Гоголя по Нежинской гимназии, К. М. Базили. Базили, сопровождавший в паломничестве Гоголя, был крупным знатоком Востока, немало написавшим и о Палестине /18/.
Вяземский приехал в Иерусалим с женой, пытаясь утишить перенесенное тяжкое горе (он потерял старшую дочь, две младшие умерли раньше). Во время паломничества он вел дневник, позднее изданный его внуком С. Д. Шереметьевым.
В этом дневнике можно встретить те душевные переживания и раздумья, которые не попадали в его стихи с их несколько отстраненной поэтикой.
Несмотря на некоторую описательность самого известного стихотворения Вяземского «Палестина», навеянного этой поездкой, оно стало по-своему хрестоматийным. В нем есть живость взгляда, свободное дыхание и тонкий интонационный рисунок, да и оно, пожалуй, впервые в нашей поэзии давало живую картину древней земли. Его оценили современники, один из которых назвал «Палестину» «драгоценным произведением» /19/.
Тема Святой земли прозвучала и в других, пусть менее совершенных, но вполне характерных для позднего Вяземского стихотворениях. Одно из них обращено к автору знаменитого полотна «Явление Христа народу», другое было посвящено памяти известного библиофила, поэта и автора «Путешествия по Святой земле», дважды побывавшего в Палестине, А. С. Норова.
В дневнике П. А. Вяземский писал: «Как поживешь в Святом Граде, проникнешься убеждением, что судьбы его не исполнились. Тишина в нем царствующая, не тишина смерти, а торжественная тишина ожидания» /20/.
Вспоминающий эту тишину старый поэт заново переживал «летопись опальной… земли»:
Там дерево томится тенью судной,
Поток без волн там замер и заглох.
И словно слышен в тишине безлюдной
Великой скорби бесконечный вздох.
Поток без волн там замер и заглох.
И словно слышен в тишине безлюдной
Великой скорби бесконечный вздох.
В 1860—1862 годах, объехав несколько средиземноморских стран, в Палестине побывал Н. В. Берг, известный поэт-переводчик. Свои странствия он описал в очерках «Мои скитания по белу свету», а в 1863 году издал «Путеводитель по Иерусалиму и его ближайшим окрестностям».
В 1873—1874 годах в Иерусалиме жил С. И. Пономарев, известнейший библиограф, позднее редактор первого посмертного издания сочинений Н. Л. Некрасова и малозаметный стихотворец. Глубоко религиозный человек, неутомимый труженик, он составил в Иерусалиме каталоги консульской библиотеки и библиотеки Духовной миссии.
А позднее составил и обстоятельнейший по тем временам библиографический указатель «Иерусалим и Палестина в русской литературе, науке, живописи и переводах».
В 1879 году он издал книгу стихотворений «По Святой Земле. Из палестинских впечатлений», укрывшись под инициалами С. П. Конечно, книжка мало что значила для русской поэзии. Ее стих, как правило, излишне описателен, вял, отягощен прозаизмами и морализаторством. Видимо, и автор трезво оценивал свои писания. Хотя это и не помешало ему переиздать ее, а через двадцать лет выпустит; третье, дополненное издание. Но сама попытка такого цикла, своеобразного путевого дневника паломника-стихотворца, простодушно фиксирующего увиденное, свои чувства и мысли, достаточно любопытна.
Посещение Палестины русскими паломниками особенно увеличилось после основания в 1882 году «Императорского православного палестинского общества». К концу XIX века в Иерусалиме жили 5 тысяч православных, притом, что всех жителей в нем было немногим более 40 тысяч.
Знаток Палестины, издатель «Православного палестинского сборника» В. Н. Хитрово писал о притягательной силе Святой земли, отмечая: «Не следует также забывать, что, кроме… священных воспоминаний, делающих Палестину дорогою сердцу каждого православного, в ней попеременно властвовали: Египет, Ассирия, Вавилон, Персия, Греция, Византия, арабы, западные крестоносцы, турки и каждый из них, словно геологическое наслоение земной коры, оставил в ней следы своего существования» /21/.
Вот в эту Палестину и приехал в 1907 году зоркий, памятливый, умеющий читать каменную книгу бытия И. А. Бунин, Его очерки действительно «путевые поэмы», в которых Святая земля увидена поэтически проникновенно, с какой-то возвышенной горечью, которую не мог не вызвать ее настоящий день, осуществлявший пророчество о попрании Иерусалима «языками до времен скончания языков».
«Темным ветхозаветным Богом веет в оврагах и провалах вокруг нищих останков великого города,— писал Бунин.— Или нет,— даже и ветхозаветного Бога здесь нет: только веянье Смерти над пустырями и царскими гробницами, подземными тайниками, рвами и оврагами, полными пещер да костей всех племен и народов. Место могилы Иисуса задавлено чернокупольными храмами. Мечеть Омара похожа на черный шатер какого-то тысячелетия тому назад исчезнувшего с лица земли завоевателя. И мрачно высятся возле нее несколько смоляных кипарисов…» /22/
В одном из стихотворений «палестинского» цикла поэт признавался:
…душа моя грустно чего-то искала.
Неподвижно светили
Молчаливые звезды над старой,
Позабытой землею…
Неподвижно светили
Молчаливые звезды над старой,
Позабытой землею…
И кажется, что эта умеющая тихо радоваться, но и тоскующая душа искала и не находила в древней стране того, что могло бы дать умиротворение, словно бы поэт здесь со всем человечеством, со всей его кровавой.историей, которое
И само еще не знает, Что оно иного жаждет, Что еще раз к Назарету Приведет его судьба!
Стихи и проза И. А. Бунина, рожденные палестинскими впечатлениями, бесспорно, самое значительное после «Хожения Даниила», что написано о Святой земле в русской литературе. Очерковая конкретность и поэтическая сжатость, таинственное умение одним точно положенным мазком добиться живописного эффекта, мудрость, избегающая рассуждений, а выраженная в душевных движениях,— все это делает бунинские страницы воистину драгоценными.
В поэзии начала нашего века с ее многообразием и интенсивностью религиозно-духовных исканий преобладает евангельский образ Иерусалима и Святой земли, воспринимаемый чаще всего как символ. Поэтому так умозрительно говорится, а иногда лишь упоминается об Иерусалиме в стихах С. М. Соловьева, Федора Сологуба, О. Э. Мандельштама, В. Я. Брюсова. Поэтому Христос Н. С. Гумилева, идет не каменистой пыльной дорогой, а мистическим «путем жемчужным». Поэтому так условна дорога в Эммаус В. И. Иванова, побывавшего в Иерусалиме в 1902 году, но почти не внесшего непосредственных впечатлений в стихи своего цикла «Солнце Эммауса».
В послереволюционной поэзии религиозные мотивы изгоняются все более яростной цензурой, но продолжают звучать, чаще всего потаенно в творчестве поэтов, оставшихся верными себе и поэзии.
Если еще в 1919 году Г. Л. Шенгели издает книгу стихов на библейские сюжеты «Еврейские поэмы», а в 1924 году поэты, собравшиеся в волошинском Коктебеле, устраивают поэтический конкурс на тему «Соломон» (победителем в нем был признан С. В. Шервинский), то непростая судьба стихов из романа Б. Л. Пастернака или религиозной лирики Н. В. Стефановича уже вполне обычна для времен несвободы и государственного атеизма.
Но высокая духовность русской литературы, ее христианская традиция не могли исчезнуть, они продолжались, пусть по преимуществу в неизданных стихах, самиздатских рукописях.
Н. А. Клюев, М. А. Волошин, А. А. Ахматова, Д. Л. Андреев и другие менее известные, более скромные, но подлинные поэты оставались верны себе, долгие годы и десятилетия не печатаясь, но сохраняя святой огонь русской поэзии. Потому что звезда Ерусалима, звезда христианской духовности горела над нами неизменным трепетным светом и тогда, когда мы ее не видели.
____________
Примечания
/1/. Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом летом 1871 года. Т.1.М.-Ю,.1949 с. 671
/2/. Буслаев Ф. Исторические очерки русской народной словесности и искусства. Русская народная поэзия Т. 1. СПб., 1861. С.461.
/3/. Хитрово В. Н. Православие в Святой земле. Православный палестинский сборник. Т. 1. Вып. 1. СПб., 1881. С. 3
/4/. Пономарев С. Иерусалим и Палестина в русской литературе, науке, живописи и переводах. СПб., 1877. С. XVIII.
/5/. Пономарев С. Там же.
/6/. Бунин И. А. Собрание сочинений в девяти томах. Т. 3. М., 1965. С. 384.
/7/. Хитрово В. Н. Указ.соч.97
/8/. Пушкин в русской философской критике. М., 1990. С. 380.
/9/. Пушкин А. С. Полное собрание сочинений в десяти томах. Т.
/10/. М., 1964. С. 262. 1 Там же.
/11/. Об этом см.: В. Э. Вацуро. Эпиграмма Пушкина на А. Н. Муравьева. В сб.: Пушкин. Исследования и материалы. Т. XIII. Л., 1989. С. 222—241.
/12/. Муравьев А. Н. Мои воспоминания. М. 1913. С. 25—26. См. также другой вариант этого эпизода в книге: А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. М., 1985. С. 57—58.
/13/. Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений. Т. XIV. М., 1952. С. 167.
/14/. Розанов ВВ. Мысли о литературе. М., 1989. С. 502.
/15/. Гоголь Н. В. Указ. соч. С. 168.
/16/. Жуковский В. А. Собрание сочинений в четырех томах. Г. 4.'М. — Л., 1960. С. 553.
/17/. Жуковский В. А. Указ. соч.
/18/. См. Базили К. М. Сирия и Палестина под турецким правительством в историческом и политическом отношениях. СПб., 1875; а также с. 254—309 в кн.: Сирия, Ливан и Палестина в описаниях российских путешественников, консульских и военных обзорах первой половины XIX века. М., 1991.
/19/. См.: Русский вестник. 1861, № 4. С. 139. Шереметьев С. Д.
/20/. Путешествие на Восток князя П. А. Вяземского. СПб., 1883, С. 83.
/21/. Хитрово В. Н. Указ. соч. С. 5.
/22/. Бунин И. А. Указ. соч. С 365.
теги:
литераторы-паломники
Поделиться: