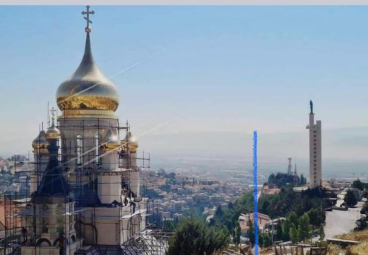Иванов Александр Андреевич
Не столько сама эта громадная картина, сколько то, что «вокруг» нее, вся масса сопутствующих ей этюдов, дает представление о творческом пути Иванова. Но нельзя забывать, что все этюды так или иначе должны были служить картине, что ее идея сама продуцировала многообразные искания, выразившиеся в этюдах, зарисовках, набросках, что к ней имели отношение даже самостоятельные пейзажи, не вошедшие в картину. Сюжету «Явления Мессии», в искусстве редкому, Иванов придавал эпохальное значение, видя в нем смысловую кульминацию Евангелия.
Взят тот момент евангельского повествования, когда пророк Иоанн, совершая обряд крещения над жителями Иудеи, видит Христа, идущего к нему, и возглашает народу: «…вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира». И все обращают взоры к идущему, все, каждый на свой лад, потрясены и взволнованы: ведь иудейские пророки за много веков предрекали приход Мессии — Спасителя. Наступила минута, в которую верили и не верили, надеялись и сомневались; надежда на избавление от зла и грядущее царство гармонии вспыхнула с новой силой. В толпе, собравшейся на берегу Иордана, Иванов изобразил разных людей: здесь и богатые и бедные, юные и старые, невинные и грешные; и те, что сразу отозвались сердцем на появление искупителя, и те, что продолжают сомневаться; здесь будущие ученики Христа — апостолы и его будущие гонители — фарисеи. Здесь и раб с веревкой на шее, который прислушивается к словам пророка, и на губах его проступает улыбка, трудная, чуждая его измученному лицу. Есть в замысле Иванова нечто близкое стихам Ф. Тютчева:
Но старые гнилые раны,
Рубцы насилий и обид,
Растленье душ и пустота,
Что гложет ум и в сердце ноет, -
Кто их излечит, кто прикроет?
Ты, риза чистая Христа…
Иванов верил, что картина, им задуманная, призвана оказать нравственно возвышающее действие на общество. Он верил в возрождающую миссию искусства и в то, что русскому искусству предстоит сказать здесь свое слово. Возвращаться в Россию он не хотел, так как казенный Петербург и казенная Академия художеств его отпугивали; писал отцу, что «в шитом, высоко стоящем воротнике ничего нельзя делать, кроме как стоять вытянувшись», что «художник должен быть совершенно свободен, никогда ничему не под чинен, независимость его должна быть беспредельна». Но «звание художника русского» он ставил высоко, гордился им, мечтал о великом будущем России и русского искусства. С Россией он связывал все свои мессианистские утопии. Картиной же своей хотел положить начало пути, которым надлежало следовать. Он отдавал ей все силы, все время, все помыслы. Его постоянным советчиком был Н. В. Гоголь, с которым Иванов познакомился и близко сошелся в Риме. Портретные черты Гоголя (вероятно, по желанию самого писателя) запечатлены в «Явлении Мессии» в образе того, кто идет последним в длинной веренице паломников.
Это единственное в картине лицо, для которого был только один портретный прообраз. Остальные являются собирательными. Работая над картиной, Иванов выработал метод, который называл методом сравнения и сличения, стремясь «согласить творчество старых мастеров с натурой». Это не значит, что он «поправлял» свои натурные этюды по античным или ренессансным образцам (такой метод он решительно отвергал), — нет, он искал в жизни лиц, подобных тем, что могли вдохновить художников прошлого. Вглядываясь, например, в античную голову фавна, он словно задавался вопросом: какова была натура, претворившаяся в этом образе? И сквозь ужимки мраморного козлоногого божества ему виделось сморщенное лицо раба с жалкой улыбкой. Наблюдения над живыми людьми вносили новые обертоны: среди многочисленных этюдов головы раба есть головы нищих с изуродованными лицами, клейменых каторжников, есть лица забитые и мятежные, приниженные и вызывающие, есть даже женские и детские, тоже имеющие какое-то сходство с фавном. Так Иванов работал почти над каждым персонажем своей картины, проводя его через ряд перевоплощений — и по вертикали (из глубины веков) и по горизонтали (среди живых современников).
У Иванова был неумолимый максимализм в требованиях к искусству, к себе. Он хотел написать не просто религиозную картину, но подлинно историческую — и трудился как исследователь, считающий долгом изучить все относящееся к его предмету.
Он собирался поехать в Палестину, но петербургское Общество поощрения художников, от которого он зависел, решительно воспротивилось. Иванову пришлось ограничиться Италией — и из нее он извлек все возможное. Художник совершал длительные путешествия по стране, в ее старинном искусстве открыл для себя множество такого, чего профессора Академии вовсе не знали. Он не только пленился колоризмом венецианцев (которых Академия не очень жаловала), но полюбил Джотто, заинтересовался мастерами кватроченто, средневековыми мозаиками и фресками. Все поражавшее его усердно зарисовывал. Когда же он пытался поделиться в письмах Обществу поощрения художников своими открытиями, ему наставительно отвечали: «Там, где есть Рафаэли, Корреджи, Тицианы, Гверчины и пр., не учатся над Джиотто». Иванов все больше и больше утрачивал общий язык со своей альма-матер.
Самые удивительные открытия он делал, работая с натуры. Иванов никогда не считал себя пейзажистом, но в «Явлении Мессии» нужно было изобразить берег реки, дерево, дальние горы — и он писал горы в Неаполе, «реку чистейшей и быстро текущей воды» в Субиако, старую Аппиеву дорогу в Риме, Понтийские болота. Писал этюды почвы, камней, деревьев, веток. Никогда не сбивался на сладость в трактовке итальянской природы, банально-красивых мотивов избегал. В его пейзажах нет и романтического восторга, романтической неги, как у Сильвестра Щедрина; они, несмотря на небольшие размеры, эпически величавы и, скорее, могут напомнить о классических ландшафтах Пуссена и Клода Лоррена, но с той разницей, что у Иванова все прослежено и проверено на природе, через ее пристальнейшее наблюдение. Он шел от анализа к синтезу. Камни в быстром горном ручье, ветка дерева на фоне синих лиловеющих далей учили его тайнам цвета, меняющего оттенки в зависимости от освещения, определяющего форму и пространственные планы. <…>
Александр Иванов не раз говорил, что отдельно от картины его этюды «мало значат и теряют цену». Между тем все накопленное в них богатство в картину не вошло, да и не могло войти, а новаторство Иванова как живописца выразилось в ней далеко не полно. Захватывающая грандиозностью своей концепции, своим пафосом — «царям земли напомнить о Христе», — реализмом многих фигур и лиц, она все же отдает академическим «сочинением» в группировках; кроме того, цвета локальны, разобщены, отсутствует та живая колоритность, которой дышат натурные этюды. Дело, видимо, в том, что художник картину не закончил, то есть не прописал ее еще раз на том уровне понимания живописи, какого он достиг в 50-е годы. А не закончил потому, что охладел к ней. (Возможно, лишь некоторые куски подверглись окончательной доработке: так, левая первопланная фигура юноши, выходящего из воды, написана со всем совершенством зрелого мастерства Иванова.)
Поворот в мировоззрении и как следствие охлаждение к своему многолетнему труду наметились у художника в конце 40-х годов. Иванов не был таким уж смиренным монахом искусства, как описал его Гоголь в «Переписке с друзьями». Он жил уединенно, аскетически, но не оставался глух ни к умственным, ни к политическим движениям современности. На него сильно подействовали революционные события 1848 года в Италии, которым он был свидетелем. В это время он познакомился с Герценом, приехавшим в Рим: мощный ум Герцена не мог не оказать на него влияния, оттеснив влияние Гоголя. В письмах к друзьям Иванов теперь просил присылать ему исторические и философские книги. Через несколько лет он сказал в письме неизвестному адресату: «Мои труды: большая картина более и более понижается в глазах моих. Далеко ушли мы, живущие в 1855 году, в мышлениях наших тем, что перед последними решениями учености литературной основная мысль моей картины совсем почти теряется и, таким образом, у меня едва достает духу, чтоб более совершенствовать ее исполнение… Вы, может быть, спросите: что ж я извлек из последних положений литературной учености? Тут я едва могу назваться слабым учеником, хоть и сделал несколько проб, как ее приспособить к нашему живописному делу». «Пробы», о которых он так скромно упоминает, — гениальные эскизы росписей для задуманного им «Храма человечества», известные под названием «библейских эскизов». <…>
Величайшее достижение в русской религиозной живописи, до сих пор не оцененное по достоинству, — гениальные эскизы росписей Александра Иванова. Они были задуманы художником для «Храма человечества», а в истории искусства известны под названием «библейских эскизов».
* * *
Это высший этап творчества Александра Иванова. Смолоду не приобщенный к наукам, Иванов питал к «учености литературной» трогательное благоговение неофита, и, если книга отвечала его созревавшим запросам, он ей доверялся вполне. Так доверился он книге Д. Штрауса «Жизнь Иисуса». Немецкий философ Штраус, стремясь вылущить историческое ядро из евангельских рассказов, рассматривал их под углом зрения сравнительной мифологии, сопоставляя с аналогичными сюжетами в Ветхом завете, а также в других религиях, в том числе языческих. Почему эта книга, довольно сухая и педантичная, произвела впечатление на Александра Иванова?
Он отыскал в ней опору и канву для своего замысла — представить в серии картин «результат всех верований на земле», грандиозный свод религиозных сказаний. Окинуть взглядом историю человечества, уловить в ней повторяемость поисков и идеалов и достигнуть, таким образом, самопознания: вот такая задача — не меньше! — вставала, по мнению Иванова, перед современным искусством.
По замыслу, всех композиций «храма человечества» предполагалось около пятисот. Художника не останавливали соображения о краткости человеческой жизни, — он и не надеялся, что осуществит все это сам, довольствовался тем, что намечает контуры «нового пути». Он успел сделать более двухсот эскизов акварелью, мало кому их показывал и мало о них говорил — только намеками, хотя работал над ними, по-видимому, несколько лет. И потом, уже после смерти художника, эти изумительные листы долго оставались неизвестными широкому кругу зрителей, в представлении которых он был автором одной большой картины.
Судя по записям и наброскам, Иванов был намерен включить в свой цикл, следуя Штраусу, не только библейские сюжеты, но и сюжеты из античной мифологии — «Вознесение Геркулеса» (как параллель «Вознесению Илии»), «Леда», «Рождение Пифагора» и др. Но основу составляли сцены из Ветхого и Нового завета, и только эти эскизы доведены до большей или меньшей законченности.
В них художник пожинает плоды своего многолетнего героического ученичества. Целый мир образов накапливался в его воображении за эти годы, весь комплекс художественных идей не мог вместиться в «Явление Мессии», теперь он нашел исход. Поражает разнообразие и нетрадиционность композиций. В них есть дыхание древнего эпоса («Три странника, возвещающих Аврааму рождение Исаака»), есть стиль, но нет стилизации: отголоски древних искусств вплоть до египетского и ассирийского органически и непротиворечиво соединяются с современным реалистическим видением («Богоматерь, ученики Христа и женщины, следовавшие за ним, смотрят издали на Распятие»).
<…> Иногда такого рода стилевые реминисценции вполне очевидны: фризообразная композиция в «Побиении Захарии камнями», плоский разворот танцующих фигур в «Пляске вокруг золотого тельца», чеканный ритм жестов в «Моисее перед фараоном». Иногда художник использует композиционный мотив противостояния — две величавые фигуры друг против друга на фоне храма или далеко расстилающегося ландшафта: Захария перед ангелом, Авраам перед богом, Моисей перед Иеговой, пишущим скрижали завета. Иногда композиции пространственны, многопланны и многофигурны: в сюжетах «Речи Иисуса», «Проповедь Иоанна Крестителя» показана толпа, располагающаяся непринужденно и живописно, без всякого налета академической искусственности, какая еще давала себя знать в картине «Явление Мессии». Иоанн Креститель выглядит здесь иначе: не импозантный проповедник в эффектно наброшенном плаще, но народный пророк, нищий и оборванный, чья речь экстатична, а жесты неуклюжи. Однако с глубоким, смиренным вниманием слушают его собравшиеся почтенные старцы.
Миф и историческая среда, легендарность и подлинность, повседневность и чудо сплавлены воедино в библейских эскизах («Бичевание Христа», «Христос и Никодим», «Иосиф Аримафейский и Никодим переносят тело Христа». Художник достигает «живого воскрешения древности». Порой кажется, что сам он бродил под жгучим палестинским солнцем вслед за пестрой толпой, среди мытарей и рабов, внимая пророчествам странствующего проповедника. Прекрасны листы, где Александр Иванов изображает характерные для Библии мотивы волшебного света, разящих, ослепляющих лучей. Это развязывает крылья его фантазии, он создает настоящие световые поэмы в «Захарии перед ангелом», «Благовещении», «Преображении». В «Захарии» — симфония бледно-золотого, белого и призрачно-голубого света: он струится, мерцает, пронизывает насквозь фигуру ангела, в клубящемся сиянии тонут своды храма. А с какой невиданной художественной смелостью передан эффект чуда в акварели «Ангел благовествует пастухам о рождении Христа»! Белый силуэт ангела с распластанными крыльями, внезапно возникающий в воздухе перед ошеломленными пастухами, ничем не связан с пространственным, уходящим в глубину вечерним ландшафтом, с облаками, тенями и предметами земли: он, кажется, принадлежит какому-то четвертому измерению, фрагмент которого вдруг стал видим.
Самыми дорогими остаются для Иванова темы духовного просветления, сбывшейся надежды, необманутого ожидания. Для них он находит вдохновенные композиции. Вот эскиз «Хождение по водам», иллюстрирующий евангельский рассказ о том, как ученики Христа, плывя в лодке, увидели Христа, идущего поверх волнующегося моря; как Христос позвал Петра и велел идти к нему, Петр пошел по воде, но, испугавшись, начал тонуть, тогда Христос поддержал его со словами: «Маловерный! Зачем ты усомнился?» Эскиз набросан акварелью и белилами на желтой тонированной бумаге, местами оставленной незакрашенной: незакрашенные места образуют силуэт лодки, взметнувшейся на гребне волны, и просветы между грозовыми тучами. Фигуры Петра, упавшего на колено, и Христа, протягивающего ему руку, очерчены прерывистым, энергичным белым штрихом поверх пейзажа; они прозрачны: сквозь них просвечивают и волны и небо. Вероятно, художник почувствовал, что фигуры «идущих по водам» в ночном мраке и буре именно и должны быть контурно-прозрачными: они создают волшебное впечатление Seegespenst — морского видения. В книге Д. Штрауса, которую Иванов штудировал, упомянуто высказывание Гете по поводу этой легенды: «Эккерман передает, что Гете считал этот рассказ самой красивой и для него по крайней мере самой ценной из легенд, поскольку в ней наглядно выступает наружу та высокая истина, что вера и бодрость духа ведут человека к победе и в самых трудных его предприятиях, между тем как возникновение малейшего сомнения влечет за собой неминуемую гибель».
Нужно ли сожалеть, что акварели Иванова не превратились в стенные росписи? По духу, по строю они монументальны. Но, не говоря уже об утопичности самой идеи соорудить «храм человечества», — не церковь, не музей, а нечто еще никогда не бывалое, — не говоря о том, что в России XIX века это совершенно исключалось, — можно думать, что, переведенные в фрески или в большие картины маслом, библейские эскизы все же утратили бы значительную долю своего художественного очарования. Тот же эскиз «Хождения по водам», превращенный в законченную картину, «доведенный до околичностей», лишенный магии недосказанности, вероятно, сильно бы проиграл. <…>
За несколько дней до смерти он [Иванов] писал брату: «Если бы, например, мне даже не удалось пробить или намекнуть на высокий новый путь, стремление к нему все-таки показало, что он существует впереди…» Он имел в виду, конечно, путь, предуказанный его библейскими эскизами, а не тот, на который тогда вступала русская живопись: к бытовому жанру Александр Иванов всегда относился отрицательно, не считая его высоким. Тем не менее, этот одиноко стоящий, собственным путем идущий искатель оказался в конечном счете самым важным для судеб русского искусства художником. Но он был из тех, чьи произведения постигаются не сразу и влияют исподволь. Художественно-философские идеи Иванова потом преломлялись в творчестве Ге, Крамского, Антокольского, Сурикова, Поленова, Нестерова; дух и стиль его библейских эскизов воскресал в искусстве Врубеля. Но это не все. Трудно, почти невозможно проследить, как входит искусство в сознание людей и потом всходит в нем новыми побегами. Это процесс, протекающий молчаливо и измерению не поддающийся.
Александр Иванов остался не разгаданным своими современниками. Когда он в 1858 году наконец вернулся в Россию, возбужденную и взбудораженную и катастрофой Крымской войны, и началом нового царствования, и грядущими реформами, его большая картина, плод почти тридцатилетнего итальянского затворничества, была встречена с замешательством и недоумением. Она не ко времени пришлась. В печати появились развязные, полуснисходительные статьи, инспирированные академиками, настроенными против Иванова. Были и похвальные отзывы, но и хвалили, и порицали невпопад — не понимали, к какому «лагерю» он принадлежит. Внезапная смерть художника подвела черту. За несколько дней до смерти он писал брату: «Если бы, например, мне даже не удалось пробить или намекнуть на высокий новый путь, стремление к нему все-таки показало, что он существует впереди…»
Дмитриева Н. А. Краткая история искусств. Вып. III. — М.: Искусство, 1993. С. 220—230