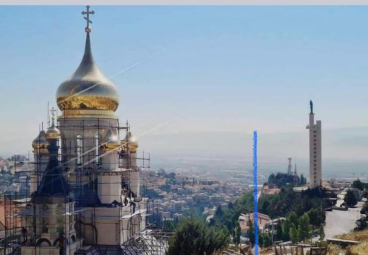Консервативный музей может быть современнее всего остального

11 мая откроется 58-я Венецианская биеннале, самая престижная выставка в мире современного искусства. В этом году российский павильон будет отдан не влиятельному куратору, не именитому художнику, а целому музею: «куратором» павильона выступит Государственный Эрмитаж. В общественном сознании Эрмитаж сегодня – это его директор Михаил Пиотровский, человек, к которому обращаются далеко не только по вопросам искусства. Накануне дебюта Эрмитажа на биеннале «Ъ» поговорил с Михаилом Пиотровским о том, трудно ли быть защитником культуры как таковой, о музее как храме, монастыре и аттракционе, а также об азарте и консерватизме.
– Вы стали директором Эрмитажа в 1992 году. Я начала писать об Эрмитаже в 1993-м. За прошедшие годы мы с Вами встречались десятки раз по самым, казалось, актуальным поводам. И вот сегодня мы видим, что все эти темы по-прежнему актуальны.
– Возвращается абсолютно всё, и в этом трагедия. Все проблемы вернулись, и их надо снова решать. Денег нет – это как бы вечная проблема. Но вот сегодня деньги как раз есть, а при этом стройки стоят замороженные. Свободы нет – а тогда была свобода. Реституция – президент Франции запустил это по новому кругу. И главная угроза – угроза приватизации, с которой мы 25 лет сражаемся. Ну и бюрократия…
– Но ведь казалось, что по вопросу реституции западный мир и мы, как его часть, пришли к какому-то консенсусу?
– Нет, не было его.
Когда мы начинали говорить про реституцию, это был локальный разговор – Германия требует остатки того, что было взято. Уже тогда я предупреждал: это ящик Пандоры, бумеранг может вернуться.
А потом началось. Вылезли все эти вещи – в парижских коллекциях, в американских, австрийских, невозвращённые, холокостовские... Потом подключились с претензиями Греция, Турция, Египет. Сегодня президент Макрон готовится вернуть африканское искусство. В общем, полное безумие. А это принципиальный вопрос, вопрос о переделе музейных коллекций. Реституция является частным случаем, потому что главный вопрос – что такое музей? Это организм, из которого ничего нельзя изъять, или это склад, из которого можно вынуть и отдать Германии, можно вынуть и отдать Русской Православной Церкви, можно по чьему-то велению передать вещи из одного музея в другой. Все вместе – это большая мировая проблема: что такое музей, музей как порождение европейской цивилизации.
– Но ведь в разных странах совершенно разные законы по поводу музейных фондов.
– Это тот случай, когда в законах нет ничего хорошего. Законы могут служить дополнительным средством регулирования отношений, а не основой для отношений. Смотрите, есть закон UNIDROIT 1995 года, который никто не принимает всерьёз, есть разные соглашения, есть Гаагская конвенция 1954-го, которая тоже никакого отношения к этому не имеет. Сейчас все эти законы вообще, видимо, надо менять. Но главное, что стоит понять, – сохраняем мы европейскую цивилизацию и музеи или начинаем обсуждать что, кому и как передавать. Потому что ситуация разворачивается по нисходящей: Греция требует у Британии вернуть мраморы Парфенона. А локальные музеи в Греции требуют вернуть им вещи, которые находятся в археологическом музее в Афинах… Теперь уже без государственных гарантий никто никуда выставку не повезёт.
– Это лавина?
– Да, только тронешь и покатится. Церковь – только её кусочек. Есть, например, места, которые хотят, чтобы к ним ездили туристы. Отдайте вещи в этот город и в тот город... У нас всегда останется Эрмитаж, который мы никому не отдадим. Но представьте себе судьбу других музеев.
– Вы считаете, что это должно решаться сначала на международном уровне или тут важнее российские законы и правила?
– Я думаю, здесь мы не должны реальность подгонять под закон. Когда-то нам казалось, что вопросы оскорблений, святотатства и тому подобные можно решить законом. Описать и всё. Юристы нам тогда сказали: только имейте в виду, что закон – это палка, которая будет вас бить, и не думайте, что он может всё решить. Так часто и получается. Недаром лозунг юридического форума, который мы ежегодно принимаем в Эрмитаже, – «право как искусство».
Право – это не примитивная арифметика. В нашем случае оно должно исходить из нужд искусства. Взгляните на Евразийский союз и его таможенные правила. Согласно им мы должны, перевозя выставку, оформлять произведения искусства как товар. Раз товар – значит, мы должны заложить депозит в цену товара. Ох-ах! Мы даже не верили, что это возможно: раньше были нормальные правила, подразумевавшие, что выставки из этого исключаются. Теперь нет. Понадобились усилия всех и вся и принятие правительственного решения.
Дальше, у нас в Государственной думе обсуждаются замечательные поправки к закону 44-ФЗ, и там важные пункты про музей, про страхование и транспортировку. Если это не принять, то у нас вообще прекратятся все выставки из-за рубежа. Потому что по тем же таможенным правилам Евразийского союза все должны быть равными, без исключений. Но исключения необходимы. Ну нельзя, чтобы транспортный тендер выигрывала фирма, приезжающая перевозить выставку с грузовиками, из которых пахнет рыбой. Во всём мире музеи доверяют транспортировку и страхование всего нескольким компаниям.
Поправку надо принять, но по правилам Евразийского союза её принять нельзя. Хотя в российской практике полно всяких списков, военных и других, где некоторые вопросы решаются без конкурса. Что теперь? Теперь мы будем тупо идти в правительство, писать, воевать. Сделаем как-нибудь, потому что это может привести к катастрофе.
– Но ведь придётся каждый раз идти и пробивать. Вы не можете один пробить все несуразицы в российском законодательстве, связанном с культурными институциями.
– Надо построить схему, при которой культурные институции будут определять, что делать. Театры должны сами решать, объединяться им или нет. Музеи должны сами решать, с кем им работать. Исправлять закон с помощью правительственных решений не лучший способ. Законы принимаются из каких-то других соображений, из желания навести порядок. Так появляются эти понятия – «товар», «услуга» – как универсальные термины. Но для нас-то это другое.
– Сейчас обсуждается проект закона о культуре. Как он Вам?
– О культуре надо говорить отдельно: у неё есть свои потребности, свои права. И законы должны создаваться для того, чтобы обеспечивать культуру, а не для того, чтобы обеспечивать верховенство закона в сфере культуры. Я всё время говорю про министерства, что они созданы, чтобы нас обеспечивать, а не мы их. Но это можно говорить и про закон в целом.
Закон должен обеспечивать процветание, развитие культуры как конкурентное преимущество нации, а не ставить её в рамки производителя услуг. Обсуждаемый закон в общем неплохой. Но никто не верит: сейчас плохо, а будет принят закон – станет ещё хуже. Все наши новые законы вредны для культуры, они против культуры. Предыдущие были хорошие, романтические, а потом пошли новые законы, которые должны всё упорядочить. Если всё упорядочить, культура выпадает.
– Пресловутый федеральный 44-й закон активно муссировался в связи с «театральным делом». Много и справедливо говорили, что на самом деле под этот закон можно посадить любого человека, который что-либо делает. У музеев было так же? Какие самые болевые точки связаны у Вас с этим законом?
– Страхование. Всё остальное понятно. Когда ты покупаешь оборудование, то не надо требовать никаких привилегий. Но страхование музейных предметов не может идти через открытый аукцион. Если мы объявляем, что тогда-то везём выставку в Казань и там столько-то золотых вещей, столько-то серебряных, общая цена такая-то, это просто наводка для грабителей. С транспортом то же самое. На этих аукционах выигрывают совершенно не те фирмы, которым мы можем доверять. Выигрывают, понятно, кто дешевле. Существуют целые схемы криминальные, как выигрывать все эти аукционы. А нам потом приходится разрывать контракты. Всё это можно обойти, но это требует больших усилий и времени.
На самом деле для страхования есть совсем другое решение – это государственные гарантии страхования, когда резервируются деньги и в случае страхового случая они выплачиваются. Нет никаких страховых сборов при этом. Это страховым компаниям не нравится. Но во всём мире так делают. Вот Третьяковская галерея – молодцы, они это практикуют (сделали выставку Мунка с государственными гарантиями страхования, но не с российскими, а с норвежскими). А у нас это совершенно непробиваемо. Я 25 лет об этом говорю.
– Шума в связи с идеей объединения Александринского и Волковского театров было много, но ведь ещё раньше пытались сочинить объединение щукинской и морозовской коллекций.
– С тех пор были и другие разговоры, значительно более серьёзные. Мол, раз мы не можем воссоединить коллекции Щукина и Морозова, то давайте соединим музеи и подчиним Эрмитажу московский ГМИИ, создадим общую дирекцию. Ну как Дирекцию императорских театров… И всё это не ради художественного смысла, а ради какой-то оптимизации. Почему бы нам всё тогда вообще не объединить? Я считаю, что все вещи такого рода должны решать сами музеи, театры, библиотеки. Это должно быть нашим правом. Как нашим правом должна быть неприкосновенность коллекций. Коллекция не должна менять своего места, кроме тех случаев, когда её плохо хранят, либо если музеи договорились между собой.
– Что этому мешает сейчас?
– Всё время появляются какие-то документы: вот нельзя передать, но есть документ, правительственный, о процедуре передачи в случае передачи в другие учреждения. Сейчас появился документ о процедуре передачи в случае передачи церкви, хотя нет закона, который обязывает передавать церкви движимое имущество. И он напоминает нам, что при желании можно передать куда-то всё. Это такая опасная идея – что никто не должен быть особенным, защищённым. Но это не так, кто-то должен быть особенным.
– Все годы, что Вы на посту директора Эрмитажа, Вы прежде всего защищаете свой музей. Защищаете как крепость, постоянно отбиваясь от наступлений.
– Ну мой образ – это музей как монастырь. У него высокие стены, у него свои правила внутри, он может защищаться, но вообще-то двери его открыты, и ярмарки тут рядом проходят, и людям он рад. Он защищается в том числе строгими правилами – с чужими в наш монастырь не ходят.
– Но мы же уже имели долгие годы музеи-храмы, где и двигаться-то страшно, и только в войлочных тапочках, шёпотом и говорить об искусстве с придыханием. Вроде многое сделано, чтобы уйти от этого?
– Я надеюсь, что пиетет к музею вернётся. Когда разрешаешь много двигаться, все начинают кричать и вопить. Мы ещё будем тосковать по временам, когда посетителей в музее было мало. Сейчас всё меряют количеством. Но уже начали говорить об избыточном туризме. Это общая проблема – я делал доклад в Ватикане «Как защитить Эрмитаж от туристов».
– Эрмитаж – надменный музей. В советское время его надменность была защитной реакцией – имперское самосознание как защита от окружающей серости. А сегодня зачем быть надменными?
– Во-первых, мы и есть наследники Империи, мы многое унаследовали, и надо это сохранить. Во-вторых, музей в принципе – а уж Эрмитаж точно – лучше, чем всё, что его окружает.
– То есть Эрмитаж, как личность, имеет право отвечать сам за себя?
– Да. Каждый музей, а Эрмитаж особенно. Не всем нужно быть как Эрмитаж, но это лидер, который даёт образцы, как на самом деле нужно себя держать. «Большой Эрмитаж» сегодня состоит из трёх элементов. Первая – глобальность: музей живёт в огромном мире, в нём он представляет свою нацию и собственный бренд, через выставки и спутники (мы делаем центры Эрмитажа в других городах и странах, это шире и ярче, чем выставки; вот и Лувр теперь вслед за нами такое делает).
Второе – доступность. Это открытие хранилищ, но научное открытие. Преступна сама мысль, что у музеев слишком много фондов и всё надо раздать. На это ответ один – отсылка к 1920-м годам, потому что с таких передач из музеев начинаются продажи. Это абсолютно прямая связь. Нужны открытые хранилища, разные формы показов, рассказы о том, что хранит музей. И власть, и общество никак не могут понять, что суть музея – это фонды, маленькая часть которых выставляется. Вот у нас 500 амфор, в Новом Эрмитаже мы выставляем несколько, в открытом хранилище в Старой Деревне – остальное. И все они необходимы для науки.
Третья часть работает в совокупности со второй – мы называем это «форум». Это то, что мы делаем на первом этаже Главного штаба и на Дворцовой площади, когда проекты музейные и не совсем музейные делаются в стиле музея, под диктатом музея, в музейном духе. Нам не нужно диктовать, как делать что-либо по типу тех указаний, которые сейчас Министерство культуры разослало в региональные музеи: привести экспозиции в соответствие чуть ли не с идеологическими задачами. К нам пока такое не приходило, но в случае чего мы будем с таким серьёзно воевать, потому что это уже запредельно. Должно быть другое: всё в музее и вокруг него должно быть приведено в соответствие с музейной политикой.
– Так Вас легко обвинить в экспансии, мол, Вы хотите, чтобы всё было в стиле Эрмитажа.
– Ну Эрмитаж как раз в экспансии не обвинишь – мы ничего не захватили, кроме музея фарфорового завода. Русский музей тут гораздо активнее. А влиятельность… Так вышло, что у нас совершенно особенный музей. Он и по размерам, и по масштабам своей истории, идеологии и задачам один из пяти-шести главных мировых музеев. И ничего с этим не поделаешь, остаётся только поддерживать это наше мировое присутствие. Мы были всегда первыми, а сейчас наше пионерство признаётся во всём мире, все стали более глобальными. Мы ни у кого ничего не отнимаем и ничего особенного не навязываем, мы считаем, что задаём образец, что мы можем преодолеть те препятствия, которые другие не могут преодолеть, можем добиться каких-то решений для Эрмитажа, на которые другие смогут потом ссылаться.
– Эта позиция привела к тому, что к Вам бегут теперь как к гуру по поводу любой проблемы культурных институций. Это тяжело?
– Приходят всё-таки не ко мне, а к директору Эрмитажа. Кроме того, вокруг нас возник Союз музеев России, и Эрмитаж – это тот локомотив, который идёт впереди. Да, мы сделали так, что наше слово стало слышно, его не было слышно в советское время. Да, конечно, люди приходят, прибегают и говорят: почему не отвечаете, почему не защищаете… Есть темы, по которым я не даю комментарии, а есть те, что действительно близки и мне, и Эрмитажу, Союзу музеев России, Клубу петербуржцев.
И даже об этих вещах я считаю нужным говорить только тогда, когда есть ощущение, что пришла ситуация, когда надо выйти из строя и сказать: я доброволец. Конечно, тяжело, когда все думают, что ты можешь помочь, а ты помочь не можешь, но это, к сожалению, ситуация общая. Сейчас нет таких фигур, к которым можно апеллировать. Не то время. Шнуров всё правильно сказал: никакой вертикали нет, всё горизонтально. А горизонтальные связи работают по-другому.
– То есть наша вера, что есть какие-то люди, к которым прислушиваются, наивна?
– Эта вера пришла из тоталитарного государства и системы стабильных авторитетов. Например, к Лихачёву прислушивались. Иногда. Схема такая была, и она работала, сейчас она не работает. Могут прислушаться, могут не прислушаться, зависит скорее от того, кто какую интригу организовал. Ты сказал – ну и сказал, до свидания, никого это не волнует. Культура должна сама себя защищать, пытаться поменять законы. Так, Союз музеев нужен для того, чтобы все понимали: мы одно музейное пространство, больших и маленьких музеев нет, мы все вместе, у нас общие проблемы.
Сейчас мы написали стратегию развития музеев России, её сильно критикуют, поскольку она исходит из музейных интересов, но она теоретически принципиальная. И важнейший вопрос там – это изменение законодательства. В 1990-е годы – благодаря нашим усилиям, кстати, – была введена защита государственных коллекций, до этого не было такого: именно поэтому в 1920–1930-е распродавались эрмитажные коллекции, и пикнуть никто не мог, потому что всё было по закону: государственная собственность, государственное учреждение. Закон о ввозе и вывозе культурных ценностей правильно сделан, он хорош для частных коллекций, но плохо работает в случае с государственными коллекциями.
– Как Вы смотрите на ситуацию, которая началась с кражи Куинджи, а потом разрослась в какие-то странные акции в Третьяковке и других музеях. Что это, проверка музеев на вшивость?
– Все 25 лет нас постоянно проверяли на вшивость. Этих проверок были десятки. Зачем? Из желания доказать, что музеи не умеют хранить? Иногда эти проверки были политическими, иногда, вроде, и нет. Но ощущение, что нам как бы говорят «ах, у вас всё нормально – тогда будет настоящая кража», остаётся. Пропажа у нас предметов прикладного искусства, 200 серебряных вещей, многие из которых, кстати, вернулись, – достаточно странная история. Вы можете представить, чтобы в течение двух лет эрмитажный хранитель выносила вещи и надеялась, что всё обойдётся? Я не могу. Но постепенно создают впечатление, что раз тут не умеют хранить, надо отдать тем, кто умеет, а те, кто умеет хранить, они сделают как в 1920-е годы. Скажут: да зачем нам так много замечательных вещей, за которые можно получить деньги, страна под санкциями, народ голодает…
– Какая-то конспирологическая теория.
– А я любитель конспирологических теорий. Тем более мы всё это проходили. В 1920-е годы вообще была фантасмагория. Я всех расспрашивал, как это было, когда приходили, забирали картины, отнимали, продавали за границу. А начиналось ведь с чепухи, спрашивали у Гюльбенкяна (Галуст Гюльбенкян, крупный международный промышленник и меценат первой половины ХХ века. – «Ъ»), что он хочет в благодарность за продажу бакинской нефти. «Что-нибудь из Эрмитажа…» Ага, вот какая чудная идея! И с подобными идеями ко мне приходили без конца, как только я стал директором.
– Любой музей на самом деле может быть обворован, и примеров тому сотни.
– Это происходит повсюду, и у нас не больше, чем где-либо. Зельфира Трегулова была права, когда сказала: «Мы не самый лучший музей на свете, но и не такой уж плохой, чтобы каждую неделю у нас что-то случалось». Журналистская подстава с внедрением экспоната в экспозицию в ГИМе заставляет задуматься ещё об одной сложной моральной проблеме. Где журналистское расследование, а где уже провокация или даже донос? Для России это особо чувствительно, у нас проблема стукачества, доносов очень острая, поэтому тут нужно быть очень осторожным. И ряд происшествий в Третьяковке воспринимается не как совпадение. Для меня это знак, что люди потеряли представление о сакральности музея – что можно тут делать, а что нельзя. У нас уже всё перепуталось – с одной стороны, надо людям объяснять, что на пол в музее плевать нельзя, а с другой – я всё время жду, что запретят «Трех граций» показывать. Шутка, но не такая уж шутка.
– Со стороны Вы кажетесь человеком консервативным, но вдруг берётесь за такие проекты, которые без известной доли азарта не поднять. Зачем Вам Венецианская биеннале?
– Во-первых, Венеция – любимое место. Во-вторых, в Венеции мы очень часто делаем свои проекты – от выставки Пригова до фарфора. То есть Эрмитаж в Венеции бывает часто. Что касается русского павильона этого года, то его комиссар Семён Михайловский придумал: Эрмитаж – это Россия, значит, покажем Эрмитаж, хороший маркетинговый ход.
– Переложил ответственность.
– Не переложил, я её отобрал. Потом начали обсуждать: давайте соберём художников, и все сделают работы на тему Эрмитажа, а я там буду как бы одним из главных людей, которые управляют современным искусством. Но мне это неинтересно. Тогда я сказал, что куратором будет Эрмитаж. Хотя само слово «куратор» не терплю.
Эрмитаж – музей, который сам себя покажет Венеции. Попробуем, может, это будет интересно.
Мы покажем, что музей как таковой важнее всего – что на биеннале современного искусства консервативный музей может быть современнее всего остального. Немного хулиганство, но оно исходит из моей идеи, что музей сам определяет среду вокруг себя, так же как в пиковые моменты своей истории наш город сам решает свою судьбу. Для меня мы все букашки, мы кичимся, имена свои всюду вписываем, но решает всё музей, и будет так, как ему нужно.
– Звучит как восточная мудрость.
– Никто не верит, кроме меня, но я чувствую, что именно так и происходит. Я 25 лет вижу, что музей живёт сам и сам делает, что надо. Ну а на биеннале мы пойдём через нестандартные ходы: попросили Сокурова, чей обожаемый в мире «Ковчег» уже дал совершенно иной взгляд на Эрмитаж. Пригласили Шишкина-Хокусая, у которого, как театрального человека, получается игра с символами музея. В основе всего понимание тройственной сути Эрмитажа – музея-храма, музея-монастыря («приюта отшельника») и музея-аттракциона.
Из атлантов Нового Эрмитажа сделали чуть ли не молельное место – люди приходят, пальцы трогают, денежку приносят.
Аттракцион – это вообще у нас всегда: большинство посетителей хотят прежде всего увидеть, как жили цари. Одни толпы у часов «Павлин» чего стоят. Вот с этими идеями сейчас мы и работаем, в проекте для биеннале нам помогают БДТ и Музей стрит-арта, участвуют студенты Академии художеств.
– Вы упомянули БДТ. В этом году в Манеже с невероятным успехом прошла выставка, которую Андрей Могучий сделал к юбилею пригородных дворцов-музеев. Это был почти иммерсивный театр. Люди выходили с выставки в слезах. Это хорошо? Мы ведь почти забыли, что музейное искусство может вызывать такие сильные эмоции.
– Это было потрясающе здорово. Но здесь важно не перейти грань, чтобы музей не стал грешить излишней театральностью. А такое уже есть. Мы много говорим, что музей больше, чем музей, музей – это общественное пространство и т. п. Но нельзя при этом уйти от подлинной вещи, от того, что только музей может делать. Вот у нас сейчас Помпеи – это именно про подлинность, про её воздух. Очень эрмитажный разговор.
– Вы говорили про избыточный туризм. Но почему тогда в Зимнем дворце не протолкнуться, а в Главном штабе, в котором сегодня самая великая за пределами Франции коллекция импрессионистов и постимпрессионистов, почти никого?
– Придут, надо приучить. Идея перенести туда французов принадлежала легендарному директору вашингтонской Национальной галереи Картеру-Брауну. На одном из международных консультативных советов он предложил именно так решить проблему новых площадей музея. Ясно же, что все туда побегут. Но не прибежали. Ровно так же не ходят в обожаемый мною Музей Людвига в Русском музее – залы пустые. Понимаете, «бренд Эрмитаж» – это Екатерина, цари, дворец, именно это нужно для того, чтобы у посетителя было ощущение, что да, он был в Эрмитаже.
Сейчас по цифрам, слава богу, посещаемость Главного штаба увеличивается каждую неделю. Мы всячески про него рассказываем, а самым действенным оказался проект Главного штаба в торговом центре «Галерея», там были конкурсы, реклама, сделали всё хорошо, и люди стали приходить. Всё тут дифференцированно: люди все очень разные, нужно выбирать, к кому как ты обращаешься.
– Чего Вы больше всего хотите для музея и чего боитесь?
– Боюсь пожара. Мы со всем справимся, но не с пожаром. Так было всегда страшно, с первого дня на посту, мой главный страх. А чего хочу? Чтобы перестали присылать инструкции сверху и чтобы перестали бесконечно писать бумаги сотрудники снизу.
Интервью взяла Кира Долинина. Источник: газета «Коммерсантъ» №76 от 29.04.2019, стр. 11