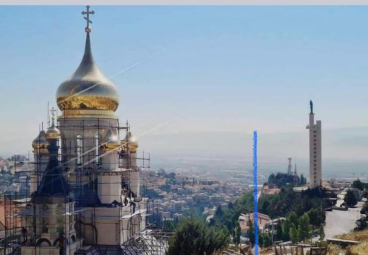«Ризы кожаны» и «брачные одежды»: о «маленьком человеке»
Писатель акцентировал при этом в качестве некоторой отправной точки сторону переживания человеком собственной умаленности в мире, бросающейся ему в глаза прежде всего внешне, в социальной несправедливости, формирующей из него «маленького человека». Причем герой «Бедных людей» оказывается читателем пушкинской истории о «маленьком человеке» из «Станционного смотрителя», соотносит себя с ним и даже солидаризируется в определенном смысле. А Пушкин, в свою очередь, соотносит эту историю с помощью ряда деталей, как известно, с притчей о блудном сыне, задавая тем самым масштаб контекста восприятия сюжета.
Сам Достоевский помещает свое художественное слово в тот же библейский смысловой контекст. Роман «Бедные люди» начинается темой райского блаженства: «Бесценная моя Варвара Алексеевна! Вчера я был счастлив, чрезмерно счастлив, донельзя счастлив! <…> Что это какое утро сегодня хорошее, маточка! У нас растворили окошко; солнышко светит, птички чирикают, воздух дышит весенними ароматами, и вся природа оживляется <…> Я даже и помечтал сегодня довольно приятно, и все об вас были мечтания мои, Варенька. Сравнил я вас с птичкой небесной, на утеху людям и для украшения природы созданной. Тут же подумал я, Варенька, что и мы, люди, живущие в заботе и треволнении, должны тоже завидовать беззаботному и невинному счастью небесных птиц <…> то есть я все такие сравнения отдаленные делал» (1;13 – 14). И в ответе Вареньки Доброселовой Девушкину звучит та же тема. Упрекая его за «легкомысленные» траты на подарки, «парочку горшков с бальзаминчиком и гераньку», Варенька в то же время восхищается: «Где это вы достали такую хорошенькую гераньку? Я ее посредине окна поставила, на самом видном месте <…> у нас теперь словно рай в комнате». И далее она продолжает: «И право, я сейчас же по письму угадала, что у вас что-нибудь да не так – и рай, и весна, и благоухания летают, и птички чирикают <…> Сегодня я тоже весело встала. Мне было так хорошо <…> Целое утро мне было так легко на душе, я так была весела!» (1; 18).
Прошедший, вчерашний день и утро сливаются в «отдаленных сравнениях» в блаженное «утро» бытия мира и человека, что подчеркнуто и в именах героев: Макар – «блаженный, счастливый», Девушкин – т. е. невинный, девственный; Доброселова – добрые селения, подобные той «гераньке», что превратила ее комнату в «рай». Это становится еще более ощутимо по мере утраты «райского» состояния: «Уж потом только как осмотрелся, так все стало по-прежнему – и серенько и темненько. Значит, это мне все сдуру так показалось» (1; 19). Оно начинает как бы отдаляться в сознании Девушкина в прошлое: «на старой квартире моей все было не в пример лучше; попривольнее было, маточка <…> воспоминания-то обо всем моем прежнем на меня тоску нагоняют» (1; 20). Вынужденный переехать на новую квартиру и тоскующий по старой Макар Девушкин соотнесен с изгнанным из рая и тоскующим по нему Адамом. Подобно ему и Вареньку, у которой «теперь опять все черные мысли <…> все сердце изныло», «увлекает <…> безотчетно» вглубь прошлого. «Детство мое было самым счастливым временем моей жизни. Началось оно не здесь, но далеко отсюда <…> я бы так была счастлива, если б пришлось хоть всю жизнь не выезжать из деревни и жить на одном месте <…> Ах, какое золотое было детство мое!» (1; 27, 84). И также повторяя ситуацию Макара Девушкина, Варенька «еще дитею принуждена была оставить родные места».
Намеченное движение — отдаление как бы уводит за горизонт. “Вот, маточка, видите ли,— жалуется Вареньке Макар Алексеевич,— дело пошло: все на Макара Алексеевича; они только и умели сделать, что в пословицу ввели Макара Алексеевича в целом ведомстве нашем. Да мало того, что из меня пословицу и чуть ли не бранное слово сделали,— до сапогов, до мундира, до волос, до фигуры моей добрались: все не по них, все переделать нужно! И ведь это все с незапамятных времен каждый божий день повторяется” (1; 47). Любопытен тот факт, что оставление героем старого места жительства и переезд на новую квартиру — деталь, свойственная раннему творчеству Достоевского в целом. Оставляет старую квартиру Голядкин в “Двойнике” (1; 121); совершается переезд и в “Господине Прохарчине” (1;240 – 241); переменяет квартиру Ордынов в повести “Хозяйка” (1; 264).
Макар Девушкин именует свою новую квартиру Ноевым ковчегом, но в примечательном смысле: “Порядку не спрашивайте — Ноев ковчег”(1; 16). Как известно, в ковчеге, построенном Ноем по Божию повелению, был спасен от вод потопа “начаток” нового человечества и вообще “всей твари” для возобновления жизни на земле после потопа. Ноев ковчег стал образом Церкви, и его атрибутом является как раз порядок (можно вспомнить и пушкинский Ноев ковчег, символ той вершины, где дольнее пространство соединяется с горним). В сознании же Девушкина он сближается с Содомом: “как в таком содоме семейные люди уживаются” (1; 23), т. е. со своей противоположностью. Апокалипсис Содомом и Египтом в духовном смысле называет город, где зверь, исходящий из бездны, убьет свидетелей Христовых и где был распят Сам Спаситель (Откр.11, 8).
К тому же смысловому ряду примыкает апокалиптический Вавилон. Такова же функция употребления эпитета “Новый ковчег” в последующих произведениях Достоевского. Например, в “Униженных и оскорбленных” Ноевым ковчегом назван дом, в котором жил старик Смит (3; 177; кстати, этот роман также начинается с поиска героем новой квартиры, которою стала квартира умершего старика Смита). В “Селе Степанчикове” “дом дяди стал похож на Ноев ковчег” (3;6), готовый мгновенно, одним толчком стать «содомом» (3; 142). В «содом» превращается в «Скверном анекдоте» свадьба Пселдонимова (5; 15 — 16). “Содом» образуется в «Крокодиле» вокруг проглоченного Ивана Матвеича (5; 194, 207). “Содом» — и в сборище разватников «Бобка», и в доме «смешного человека» (25; 106).
Т.е. имеется в виду не просто “капитальный дом”, где “все двери да двери, точно нумера” (1; 16), но подоплека антицеркви, невозможности братства в подобном “общежительном” сосуществовании. А у Достоевского дом, в котором поселяется герой — не просто место жительства: всегда присутствует скрытое соотнесение с неким учреждением братства. В “Господине Прохарчине” открыто иронически об образовавшемся “заведении на более широкую ногу” говорится, что “все до единого из новых жильцов Устиньи Федоровны жили между собою словно братья родные” (1; 241). Ордынов в повести “Хозяйка” догадывается, что забрался в злодейский притон (ср. в “Слабом сердце”: “Мы будем втроем как один человек!” (2; 28) и в Деяниях св. апостолов: “У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа…” — Деян.4, 32). Акцентуация данного смыслового ряда в ранних произведениях Достоевского действительно позволяет говорить о проекции притчевой ситуации ухода блудного сына “на страну далече” и проматывания там своего наследства. Отчужденность и отдаленность “ближних” друг от друга выдает их принадлежность к жителям “той страны”, посылающим “прилепившегося” к ним пасти свиней, не давая насытиться рожками, которые ели свиньи (см.: Лк.15, 14-16). Этой ситуации “ухода” и “проматывания наследства” свойственен, безусловно, особый тип движения, фиксируемый Достоевским. Если вернуться к отчетливо передающему строение ситуации противополаганию о.П. Флоренским “перспективности” и “обратной перспективы”, то такой особый тип движения может быть определен через “бытие как перспективную дыру, т. е. уход в беспредельное пространство, объединяемое лишь точкою схода, или иллюзорною, недостижимою и несуществующею в реальности точкою, которою даль завлекает, чтобы уничтожать”.
Сам Флоренский в связи со своей мыслью приводит литературные примеры Дон-Жуана, Фауста, Вечного Жида: у истоков этих образов — библейское повествование о братоубийце Каине, проклятом Богом и ставшим “изгнанником и скитальцем на земле” (Быт.4, 11 — 14). У Достоевского же в первую очередь вспоминаются слова князя Мышкина в романе “Идиот” о внутренних переживаниях во время жизни в Швейцарии: “Вот тут-то, бывало, и зовет все куда-то, и мне все казалось, что если пойти все прямо, идти долго-долго и зайти вот за эту линию, за ту самую, где небо с землей встречается, то там вся и разгадка, и тотчас же новую жизнь увидишь, в тысячу раз сильней и шумней, чем у нас» (8;51). Здесь содержатся подступы к фундаментальной для всего позднего творчества Достоевского теме “русского скитальчества” (конечно, скитальчества прежде всего в духовном плане). Но и в произведениях писателя докаторжного периода обнаруживается употребление указанного конструирующего принципа как атрибута, или, точнее, способа протекания бытия “на стране далече”. Причем, несомненно, присутствует смысловая связь со странствиями в поисках “мертвых душ” гоголевского Чичикова.
В. Е. Ветловская отмечает, что “тема счастья в “Бедных людях” не привязана исключительно к прошлому, она звучит в романе и как тема будущего”, такое звучание ей дают “отдаленные сравнения” Макара Девушкина, сопоставляющие человека с беззаботностью и “невинным счастьем небесных птиц”, опору которых исследователь видит в нагорной проповеди Христа: “Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды? Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?” (Мф.6, 25-26). Именно этим фрагментом нагорной проповеди организована и концовка “Маленького героя”: “Кругом стоял неумолкаемый концерт тех, которые «не жнут и не сеют”, а своевольны, как воздух, рассекаемый их резвыми крыльями <…> Я взглянул на бедную женщину, которая одна была как мертвец среди всей этой радостной жизни” (2;292 — 293). Поэтому наблюдение В. Е. Ветловской проявляет закономерное для Достоевского соотнесение.
Она развивает свое наблюдение, останавливаясь на следующих “признаниях” Макара Девушкина: “знаете ли, родная моя, чаю не пить как-то стыдно; здесь все народ достаточный, так и стыдно. Ради чужих и пьешь его, Варенька, для вида, для тона”; “а главное, родная моя, что я не для себя и тужу, не для себя и страдаю; по мне все равно, хотя бы и в трескучий мороз без шинели и без сапогов ходить, я перетерплю и все вынесу, мне ничего; человек-то я простой, маленький,— но что люди скажут? Враги-то мои, злые-то языки эти все что заговорят, когда без шинели пойдешь? Ведь для людей и в шинели ходишь, да и сапоги, пожалуй, для них же носишь” (1; 17, 76). Для Макара Алексеевича, который ест, пьет и одевается для “другого” (а “другой” для него — “чужой”), становится невозможным исполнение заповеди нагорной проповеди; “забота о материальном благе (еде, питье, одежде) у бедного человека становится заботой именно о душе”.
Раскрывающийся в приведенных словах Девушкина характер его внутреннего самоощущения формируется двумя принципиальными для него взаимосвязанными свойствами. Первое из них анализирует С. Г. Бочаров в статье “Холод, стыд и свобода (История литературы sub speсiаe Священной истории)”. Болезненное ощущение чужого взгляда и вызываемое им чувство стыда, которое сам Макар Алексеевич сравнивает с девичьим стыдом (“Да, уж если вы мне простите, Варенька, грубое слово, так я вам скажу, что у бедного человека на этот счет тот же самый стыд, как и у вас, примером сказать, девический. Ведь вы перед всеми — грубое-то словцо мое простите — разоблачаться не станете; вот так точно и бедный человек” — 1;69), С. Г. Бочаров возводит к стыду первых людей после грехопадения, когда у них “открылись глаза” и они увидели свою наготу. Такая же подоплека содержится и в последовательном чтении Девушкиным “Станционного смотрителя” Пушкина и “Шинели” Гоголя: “перейдя из пушкинского мира в гоголевский, читатель-герой ощутил себя скрывающимся и прячущимся”.
Отсюда вытекает забота, владеющая душой Макара Девушкина — “ризы кожаны” для прикрытия наготы и стыда. Естественно, речь идет о наготе и одетости в эсхатологической перспективе, что отражено в приведенной заповеди нагорной проповеди Христа. “Одежда” — метафизическая “одежда” души, “одежда” своего дела жизни. “Только бы нам и одетым не оказаться нагими”,— говорит апостол Павел (2Кор. 5, 3). Этой фразой апостола схватывается смысл ситуации Девушкина, на которую указывает В. Е. Ветловская.
Забота Макара Алексеевича о прикрытии наготы и стыда от взгляда чужого человека, реализующаяся “проматыванием” взятого вперед жалованья, не избавляет и не может избавить его от наготы, направляясь в русло принципиальной незавершимости, дурной бесконечности шинелей и сапог “для людей” (другими словами — неосуществимости заповеди нагорной проповеди); по выражению Макара Девушкина, “все мы <…> выходим немного сапожники” (1;89). Подобный смысл заключен и в описании в “Двойнике” хлопот господина Голядкина в лавках Гостиного двора, его фиктивных приобретений перед неудачной попыткой проникнуть на званый обед. Здесь, очевидно, сближение с деятельностью Чичикова из “Мертвых душ” Гоголя, призрачность и фиктивность которой доведена до предельный выпуклости.
Можно найти эквиваленты данному элементу и в других произведениях раннего периода творчества Достоевского (из тех же “Бедных людей” сюда относятся попытки Макара Девушкина “пуститься в свет”, его формирующийся “слог” и “литературные” увлечения, приводящие после “разоблачающего” прочтения “Шинели” к развенчивающему утверждению, что “и Шекспир вздор, все это сущий вздор, и все для одного пасквиля сделано!” — 1;70). Таковым является, к примеру, в рассказе «Господин Прохарчин» таинственная, “фантастическая” жизнь за ширмами “отделенного <…> от всего божьего света” Семена Ивановича, посвященная собиранию в тюфяк “благородных целковиков” и “плебеев четвертачков” и окончившаяся бесславным “разоблачением”, вплоть до буквального смысла: уже мертвый, Семен Иванович “вдруг совсем неожиданно бултыхнулся вниз головою, оставив на вид только две костлявые, худые, синие ноги, торчавшие кверху, как два сучка погоревшего дерева” (1;260). Кроме того, еще в начале рассказа повествуется о намеренной скудости “гардероба” и “рациона” господина Прохарчина, как бы наизнанку выворачивающей идею, заключенную в заповеди нагорной проповеди Христа. Финал рассказа — “разорение неожиданного капиталиста”. (Примечателен подбор “имен”, которыми наделяют господина Прохарчина его собеседники: “Фома, Фома вы такой, неверный вы человек!”; “язычник ты, языческая ты душа, мудрец ты!”; наконец: “Что вы, один, что ли, на свете? для вас свет, что ли, сделан? Наполеон вы, что ли, какой? Что вы? Кто вы? Наполеон вы, а? Наполеон или нет?! Говорите же, сударь, Наполеон или нет?” — 1; 255 — 257).
Та же основа и в “Ползункове”, где герой готовит донос на своего друга, “быв, могу сказать, сыном”, и заставляет выкупить его, получая пакет “с государственными”, который “словно тоже кричит: неблагодарный ты, разбойник, тать окаянный”. Обманутый “благодетель” “прощает” Ползункова: “Может быть, удастся мне возвратить <…> вас опять на путь истинный <...> Может быть, скромные пенаты мои <...> согреют <...> ваше <...> заблудшее сердце”. Т.е. рассказ повторяет ситуацию притчи о блудном сыне: “притащил он меня <...> в чайную ни жива ни мертва; встречают меня <...> важность такая приличная на лицах сияет <...> этак что-то отеческое, родственное такое <...> блудный сын воротился к нам,— вот куда пошло!” Разрешается вся сцена соответственным образом: «“Ну,— говорит Федосей Николаевич,— все забыто, приди, приди <...> в объятия!” Я как был, так тут же и припал к нему лицом на жилетку. “Благодетель мой, отец ты мой родной!” — говорю, да как зальюсь своими горючими! Какое тут поднялось! <...> умиление, радость такая, блудного обрели”. (2; 9 — 12). Ложное, лицемерное прощение и примирение дает возможность “отцу” вернуть себе “государственные”, лишив “блудного сына” неправедного “наследства” и вообще права появляться в “отеческих пенатах”.
Особенность “Ползункова” в том, что здесь “отец” сам “помогает” “блудному сыну” потерять полученное “наследство”. Однако это не позволяет говорить об инверсии или пародировании, профанировании евангельской притчи. Данная особенность стоит в одном ряду с формальным, внешним пренебрежением к пище и одежде господина Прохарчина, с “независимостью” господина Голядкина, с “сапогами для людей” Макара Девушкина. Т.е. речь идет о неосуществлении евангельской заповеди в условиях повторения ее евангельского контекста, построения предпосылок, идентичных евангельским, для ее осуществления. Тот же смысл воспроизводится словами Ползункова: “То есть вот какой норов: они у тебя вот что возьмут, а ты им вот и это отдашь: дескать, нате и это возьмите! Они тебя по ланите, а ты им на радостях всю спину подставишь” (1;12). Сюда же можно отнести приезд Голядкина к Олсуфию Ивановичу на званый обед, который “походил более на какой-то пир валтасаровский, чем на обед”, “отзывался чем-то вавилонским”(1;128) и закончился для героя позорным изгнанием. В результате то, что порою принимается исследователями за отбрасывание героя сюжетным финалом к притчевому началу — уходу, есть лишь нулевой эффект (энтропийный характер) иллюзорного движения в дурной бесконечности, “перспективная дыра” в терминологии о. П. Флоренского.
Есть в ранних произведениях Достоевского и более редуцированные примеры соотнесенности с указанным смысловым комплексом. Таковым является в повести “Слабое сердце” “неблагодарность” Васи Шумкова к своему “благодетелю” Юлиану Мастаковичу, давшему ему “из своего кармана” пятьдесят рублей серебром награждения за переписку спешного дела, и “ускорение пера” сошедшего с ума мечтателя (“Вдруг Аркадий с ужасом заметил, что Вася водит по бумаге сухим пером, перевертывает совсем белые страницы и спешит, спешит наполнить бумагу, как будто он делает отличнейшим и успешнейшим образом дело!” — 2;43. Эта деталь наглядно передает идею “перспективной дыры”). Сам феномен мечтательства раскрывается в тех же координатах. “В этих углах,— рассказывает мечтатель “Белых ночей”,— <…> выживается как будто совсем другая жизнь <...> которая может быть в тридесятом неведомом царстве, а не у нас» (2;112; ср. “на стране далече” притчи о блудном сыне; сюда же примыкает открывшаяся герою “Слабого сердца” Аркадию картина сумеречного Петербурга, походившего “на фантастическую, волшебную грезу, на сон, который в свою очередь тотчас исчезнет и искурится паром к темно-синему небу” — 2;48). Фантазия вплетает “всех и все в свою канву, как мух в паутину”, перенося “на седьмое хрустальное небо” и делая мечтателя богатым “своею особенною жизнью” — он “сам художник своей жизни и творит ее себе каждый час по новому произволу” В то же время “все это <...> ничто, глупый, круглый нуль»; «такая жизнь есть преступление и грех” (2;114 — 119).
Компонент мечтательства присутствует и в мотивировке ухода героя “Неточки Незвановой” музыканта Ефимова от своего помещика — благодетеля, заботившегося о нем “так, как будто тот был его родной сын” (2;145). Снова Достоевским строится ситуация притчи о блудном сыне: добровольно отпуская Ефимова, к которому “сам дьявол привязался”, помещик дарит ему деньги, и тот “тотчас же начал тем, что прокутил в ближайшем уездном городе свои триста рублей, побратавшись в то же время с самой черной, грязной компанией каких-то гуляк, и кончил тем, что, оставшись один в нищете и без всякой помощи, вынужден был вступить в какой-то жалкий оркестр”, а затем, “почти прося милостыню”, придти в “фантастический” Петербург (2;148; ср.: “младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться; и пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней” — Лк.15, 13 ?15).
Совершенно очевидно, что обращение Достоевского с первых же произведений к притче о блудном сыне имеет устойчивый характер, фактически является константой в художественной системе, с помощью которой передается идея призрачности, иллюзорности движения, внутреннего созидания героя, “проматывающего” незаконно приобретенное “наследство”. Эта иллюзорность, выражаемая конструкцией отбрасывания — возврата к притчевому началу, ошибочно принимаемой иногда, как уже было отмечено, за инверсию евангельского мотива, свидетельствует о внутреннем движении героя как о дурной бесконечности, а значит — мертвящей окаменелости. Не случайно герой Достоевского часто оказывается ни жив ни мертв, “умирает, исчезает”, или “какой-то тяжелый, свинцовый груз” налегает “на все существо его” (2;43), или же он начинает осознавать, что “как будто спал, а не жил на свете” (1;82).
Таким образом, как и в случае с онтологически «горизонтальной» духовной стратегией в художественном мире Пушкина, у Достоевского отчетливо акцентированы две стороны единого явления внутреннего мира «маленького человека» — те же, говоря пушкинским языком, «ущелье», «темница» и бесконечное «пустынное» странствование. И в равной степени как у Пушкина в смысловом объеме его художественного контекста пейзажная картина становится картиной человеческого внутреннего мира, так и у Достоевского социально окрашенная деталь превращается в метафизический образ.
Человеческая «умаленность» обрисовывается у Достоевского в движении воспринимающего взгляда от внешней обстановки, от подчеркивающего социальную обделенность описания жилища героя к проникновению в самое ядро его души. «Нумера» и бедняцкие углы в «Ноевом ковчеге» ранних произведений писателя обретают позже, как, например, в случае с Раскольниковым, черты «гроба»: здесь уже явная спроецированность на облик жилища внутреннего состояния персонажа. Другой герой «Преступления и наказания», Свидригайлов, эпатажно продлевает эту проекцию до последних пределов — в самую вечность, саркастически рисуя ее в виде закопченой деревенской баньки с пауками по углам. Еще один образ мертвящей тесноты пространства обитания умаленного законами земной жизни человека — «мейерова стена» в романе «Идиот», в которой обреченный на смерть от чахотки Ипполит Терентьев видит волощение беспощадной неумолимости законов природы по отношению к человеку.
Все эти яркие зрительные картины по своему смысловому значению могут быть охвачены одним емким символичным образом у Достоевского — образом «подполья», как раз объединяющим в себе и черты жизненного пространства, и характер устроения внутреннего мира обитающего в этом пространстве человека. Первое же определение, которым начинаются «Записки из подполья» — «Я человек больной» (5; 99). Значение определения складывается из двух составляющих. «Взъерошенное» повествование рекомендующего самого себя «автора» записок проявляет уже знакомую «наготу», болезненно ощущающую чужой взгляд («как будто с меня кожу содрали, и мне уж от одного воздуха больно»), «скрывающуюся» и «прячущуюся». Мучащая героя мысль «я-то один, а они-то все» (5; 125) подчеркивает качество его мироощущения: по выражению М. М. Бахтина, «каждый человек существует для него прежде всего как «другой». И это определение человека непосрественно обусловливает и все его отношение к нему». Эта «нагота» выльется затем в намеренное «разоблачение» — припоминание того, что «даже и себе человек открывать боится» (5; 122).
С другой стороны, «подполье», куда прячется герой от взгляда «другого», характеризуется через феномен «усиленного сознания»: «Клянусь вам, господа, что слишком сознавать — это болезнь, настоящая, полная болезнь» (5; 101). Результат «болезни» выражен героем следующим образом: «Я не только злым, но даже и ничем не сумел сделаться: ни злым, ни добрым, ни подлецом, ни честным, ни геоем, ни насекомым. Теперь же доживаю в своем углу, дразня себя злобным и ни к чему не служащим утешением, что умный человек и не может серьезно чем-нибудь сделаться, а делается чем-нибудь только дурак» (5; 100). Уже здесь развивается идея «теплохладности»как особого свойства «умного человека». Само понятие «теплохладности» связано свом происхождением с конкретным фрагментом Апокалипсиса: «И Ангелу Лаодикиской цекви напиши: так говорит Аминь, свидетель верный и истиный, начало создания Божия: знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч: о, если бы ты был холоден, или горяч! Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих» (Откр. 3, 14 — 16; этот фрагмент выделен Достоевским в его «каторжном» Новом завете, подаренном ему в Тобольске женами декабристов). Далее в тексте Апокалипсиса речь идет как раз о «наготе» ее метафизическом смысле, как она предстает взору не воображаемого враждебного, другого — чужого, а всепроникающему взору Другого — Создателя всех: «Ибо ты говоришь: «я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды»; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у Меня <…> белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видна была срамота наготы твоей» (Откр. 3, 17 — 18).
В отношении «одежды», как и «наготы», речь идет в метафизическом плане, как об «одежде» души, т. е. деле жизни (ср. у свт. Андрея Кесарийского: «облечешься в пресветлую одежду добродетелей, которою и покроешь происшедшую наготу греховную»). Ее отсутствие у «людей думающих, а следственно, ничего не делающих» (5; 103), к каковым себя причисляет человек «из подполья»,— «прямой, законный, непосредственный плод сознания», названный «инерцией», дурной бесконечностью поиска «оснований»: «Где у меня первоначальные причины, на которые я упрусь; где основания?» (5; 108).
В «инерции» рождаются несбыточные мечтания о «званье и назначенье»: «О если б я ничего не делал только из лени. Господи, как бы я тогда себя уважал. Уважал бы именно потому, что <…> хоть одно свойство было во мне как будто и положительное, в котором я бы и сам был уверен <…> «Лентяй!» — да ведь это званье и назначенье, это карьера-с» (5; 109). Эти мечтания с очевидностью пересекаются со словами черта в романе «Братья Карамазовы», обращенными к Ивану: «Моя мечта это — воплотиться, но чтоб уж окончательно, безвозвратно, в какую-нибудь толстую семипудовую купчиху и всему поверить, во что она верит» (15; 73 — 74).
Несбыточность состоит в том, что «званье и назначенье» — сфера действия закона «дважды два четыре», или, другими словами,— «каменная стена» (5; 105). итоге инерция погребения самого себя заживо в «подполье» становится замиранием «бессильно скрежеща зубами»: «Разумеется, я не пробью такой стены лбом, если и в самом деле сил не будет пробить, но я и не примирюсь с ней потому только, что у меня каменная стена и у меня сил не хватило» (5; 105 — 106).
Итак, «маленький человек» умален не только и даже не столько социальной несправедливостью, сколько самими «непреложными», «издевательски» неумолимыми законами земной жизни, беспощадно, как «дважды два четыре», сдавившими его словно каменной стеной, превратив его в своего узника, да еще «насмешливо» выставленного во всей немощной «наготе». Сознание говорит ему, что «дважды два четыре» расчеловечивает его, делает его, по выражению человека «из подполья», «усиленно сознающей мышью». Это сознание отыскивает и преподносит ему как первооснову его существа собственное его самостоятельное хотение, во всей парадоксальности его и противоречивости. Однако человк «окружен, даже замурован в мире, в котором немилосердно владычествует некая тираническая необходимость. И получается, что в нем как бы нет места для свободного хотения. На человека со всех сторон наваливаются некоторым образом нумолимые, а иногда и людоедские законы. Пойманный в прочную сеть людоедских законов, человек в этом мире суровой необходимости похож на мышь, которая попала в мышеловку, из которой не может выбраться».
На первый взгляд, «маленький человек» расчеловечивается извне. Еще один из пушкинских героев, Альбер, сын скупого барона, сетует на своего отца: «Проклятое житье! Нет, решено – пойду искать управы У герцога: пускай отца заставят Меня держать как сына, не как мышь, Рожденную в подполье»,— (П. 2; 433). Однако сам Пушкин отвечает в своем творчестве на подобные сетования, что первопричина, как сказал бы Достоевский,— в «глубинах души человеческой». «Жизни мышья беготня», о смысле которой вопрошают «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы», «однозвучный жизни шум» как «дар напрасный» — плод сердца, оказавшегося пустым, и ума, ставшего праздным.
Парадоксальным образом «усиленно сознающая мышь», постоянно обращенная, казалось бы, вовне, в сторону враждебной, давящей ее «каменной стены», загипнотизированная, если вспомнить образы Ипполита Терентьева из романа «Идиот», чудовищным тарантулом, перемолотая беспощадной машиной «естественных законов», по существу замкнута в самой себе и на самой себе. Здесь есть лишь вращение «вокруг своего существа, своей натуры», воплощающее веру европейского человека в самого себя как «центра всего сущего», тогда как человек, «в своей эмпирической данности, не располагает такой силой, которая делала бы его единственны творцом, воспитателем и создателем своей личности. Сам по себе человек не в состоянии с поощью своих органов чувств и сознания осознать самого себя во всей своей полноте. И еще в меньшей мере он в состоянии найти центр и периферию своей личности или же в ней отделить человеческое от сверхчеловеческого, естественное от сверхестественного, земное от потустороннего. Боле того, человек совершенно не способен использовать себя в качестве некоего эталона, с помощью которого можно было бы объяснить и понять себя самого».
Такая постановка проблем человека и мира «может рассердить людей», желающих «проживать на малюсеньком островке своей личной эгоистической жизни», но их логика, ставящая их самих в центр мира, есть логика греха, а «своеволие, в них выраженное, не что другое как человеческая воля, пронизанная злой волей духа зла. Ничто иное так сильно не порабощает человеческую личность в солипсическом эгоизме как сатанизированное своеволие человека. А дьявол по сути своей природы не что иное, как совершенный солипсический эгоизм. Гениальный аналитик и талантливый знаток дьявольской психологии Достоевский специально подчеркнул неспособность дьявола к воплощению, то есть к возможности выхода из узкого и смрадного кокона солипсического эгоизма, в невозможности воплощения в сампожертвенном подвиге любви. Корень греха или грех в своей метафизической сущности лежит в настойчивом утверждении: Ja = Ja”.
Логика «усиленно сознающей мыши», кажущаяся очевидной и неопровержимой, имеет своим корнем грех; а для «сатанизированного человческого интеллекта логичность и рациональность греха естественна очевидна, ибо грех, по непревзойденному определению святого Макария Великого,— «логика и суть сатаны», как отмечает один из исследователей творчества Достоевского, покрепляя свои наблюдения мыслями П. А. Флоренского: «Грех — в нежелании выйти из состояния самотождества, из тождества «я — я», или, точнее, «Я!». Утверждение себя как себя, без своего отношения к другому, т. е. К Богу и ко всей твари,— само-упор вневыхождени из себя и есть коренной грех или корень всех грехов. Иными словами, грех есть та сила охранения себя как себя, которая делает личность «самоистуканом», идолом себя, «объясняет Я через Я же, а не через Бога, обосновывает Я на Я же, а не на Боге. Грех есть то коренное стремление Я, которым Я утверждается в своей особности, в своем отъединении и делает из себя единственную точку реальности. Грех есть то, что закрывает от Я всю реальность, ибо видеть реальность — это именно значит выйти из себя и перенести свое Я в не-Я, в другое, в зримое, т. е. полюбить. Осюда грех есть то средостение, которое Я ставит между собою и реальностью,— обложение сердца корою».
Достоевский раскрывает греховную логику дурной бесконечности отстаивания своего Я, движущую по замкнутому кругу невозможности чаемого самоутверждения, в развитии взаимоотношений героя-«мечтателя» с «оскорбленной и грустной» героиней. Уже после каторги, в “Петербургских сновидениях в стихах и прозе”, произведении, во многом представляющем собою осмысливающую рамку для раннего творчества Достоевского, “фельетонист” вспоминает: “И замерещилась мне тогда другая история, в каких-то темных углах, какое-то титулярное сердце, честное и чистое, нравственное и преданное начальству, а вместе с ним какая-то девочка, оскобленная и грустная, и глубоко разорвала мне сердце вся их история” (19;71). Действительно, в системе образов фактически каждого произведения докаторжного периода рядом с мечтателем-героем — “оскорбленная и грустная” героиня: оскорбленная Быковым и Анной Федоровной Варенька в “Бедных людях”, “испорченная” и “погубленная” Катерина в “Хозяйке”, обманутая ремонтером Марья Федосеевна в “Ползункове”, обманутая женихом Лизанька в “Слабом сердце”. Этот ряд продолжают и Александра Михайловна в “Неточке Незваной”, и m-mе М* в «Маленьком герое». Типологические черты подобного образа с той или иной степенью редуцированности присутствуют также и в «Двойнике» (прявляясь в возникающих вокруг отодвиутого на второй план образа Клары Олсуфьевны обстоятельствах интриги с целью женитьбы), и в «Господине Прохарчине» («Ах, греховодник, обманщик такой! Обманл, надул сироту!» — клянет своего скончавшегося жильца-фаворита и «неожиданного капиталиста» Прохарчина хозяйка квартиры Устинья Федоровна — 1; 262), и в «Белых ночах» (Настенька, оставленная, как ей казалось, тем, кого она любила, рассказывает о своем горе: «Он сказал, что тотчас же по приезде придет к нам <…> Теперь он приехал, я это знаю, и его нет, нет!» — 2; 125). Родственные образы есть и в послекаторжных повестях и рассказах Достоевского, от Настеньки в «Селе Степанчикове» до «Кроткой» и обиженной «смешным человеком» девочки («Сон смешного человека»), и в романах писателя, от Наташи в «Униженных и оскорбленных» и Сони в «Преступлении и наказании» до Грушеньки в «Братьях Карамазовых». И с первого же произведения Достоевского героиня имеет непосредственное отношение к той конститутивной составляющей образа героя-мечтателя, которая описывалась через ситуацию проматывания блудным сыном евангельской притчи наследства «на стране далече».
В «Бедных людях» «светские» устремления Макара Девушкина, чай и сапоги «для людей» неразрывно связаны с «благодеяниями», которыми он осыпает Вареньку («фунтик конфет», «бальзаминчик», театр), причем осуществляются они за счет взятого вперед жалованья, увеличения долгов, т. е. тем самым «проматыванием». «Клянусь вам, добрый акр Алексеевич, что мне даже тяжело принимть ваши подарки. Я знаю, чего они вам стоят, каких лишений и отказов в необходимейшем себе самому,— сетует Варенька.— <…> Что вы там ни говорите, как ни рассчитывайте свои доходы, чтоб обмануть меня, чтобы показать, что они все сплошь идут на вас одного, но от меня не утаите и не скроете ничего. Ясно, что вы необходимого лишаетесь из-за меня» (1; 18). Однако эти благодеяния являются внутренней необходимостью Девушкина. Его слова «я занимаю у вас (т. е. у Вареньки — Ф. Т.) место отца родного» (1; 19) приоткрывают подспудные мотивы его поступков во взаимоотношениях с обиженной «родственницей».
В. Е. Ветловкая, раскрывая содержание понятий «благодеяния» и «благодарности» в первом произведени Достоевского, пишет: «Уже здесь, в «Бедных людях», появляется тема, которая Достоевского волновала всегда, вплоть до последнего романа,— тема человека, становящегося (точнее: желающего стать в глазах другого) на место Бога». Сокрытие от болезненно ощущаемого чужого взгляда собственной «наготы» (как прежде всего состояния души) становится предпосылкой усвоения себе Девушкиным по отношению к Вареньке «отцовских» фугнкций, а через них — и «божеских». Вновь актуализируется смысл притчи о блудном сыне. В этом плане симптоматично слияние реакции Макара Алексеевича на намерение Вареньки идти в гувернантки к «чужим людям» (т. е. «на страну далече»: «чуждость» как раз является определением этой «страны«) с впечатлением от прочитанного им «Станционного смотрителя» Пушкина, имеющего внутренним стержнем опять-таки притчу о блудном сыне. «И наконец, вот отчего еще я полюбил вашу книжку (т. е. данного Варенькой «Станционного смотрителя» — Ф. Т.): <…> читаешь,— словно сам написал, точно это, примерно говоря, мое собственное сердце <…> Ведь я то же самое чувствую, вот совершенно так, как в книжке <…> Дело-то оно общее, маточка, и над вами и надо мной может случиться <…> Вот оно что, маточка, а вы еще тут от нас отходить хотите, да ведь грех, Варенька, может застигнуть меня. И себя и меня сгубить можете, родная моя» (1; 59).
Установка сознания героя на утверждение подобного соотношения подкрепляется словами героини, как бы допускающими эту установку и соизволяющими ей: «Я мею оценить в моеи сердце все, что вы для меня сделали, защитив меня от злых людей, от их гонения и ненависти» (1; 21). Так же и в «Двойнике» переданное Голядкину письмо — как будто от Клары Олсуфьевны — словно подыгрывает взятой на себя Голядкиным роли: «Я страдаю, я погибаю,— спаси меня! Клеветник, интригант и известный бесполезностью своего направленрия человек опутал меня сетями своими, и я погибла! Я пала! <…> Я погибаю! <…> Но я решилась <…> Брошусь под защиту объятий твоих <…> Твоя до гроба Клара Олсуфьевна» (1; 207). В герое повести «Хозяйка» Ордынове судорожным движением пробивается стремление разорвать сети «глубокой, безвыходной тирании над бедным, беззащитным созданием», в которых томилось «слабое сердце» Катерины: «Куплю ж я тебя, красота моя, у купца твоего» (1; 310, 319). В повести «Слабое сердце» из слов Васи Шумкова становится известно, что его любовь к оставленной женихом Лизаньке зародилась, когда он «стал утешать, ходил, ходил» (2; 19). И в «Белых ночах» Настенька пишет «мечтателю» в своем прощальном письме: «я вечно буду помнить тот миг, когда вы так братски открыли мне свое сердце и так великодушно приняли в дар мое, убитое, чтоб его беречь, лелеять, вылечить его» (2; 140).
Наконец, в «Неточке Незвановой» появляется образ», непосредственную основу характеристики которого составляет непрерывная игра роли «прощающего» (как своеобразная форма «жизнетворчества») — образ мужа Александры Мижайловны, Петра Александровича. В этом же произведении образ оскорбленной героини соотносится с евангельской грешницей, прощенной Христом. (Слова Александры Михайловны в защиту Неточки: «Дай же мне свою руку, Аннета, милое дитя мое; я не достойнее, не лучше тебя: ты не можешь оскорблять меня своим присутствием, потому что я тоже, тоже грешница» (2; 264) — свидетельство о том, что данное соотнесение входит в сферу реальной мотивировки поступков героев, т. е. о принадлежности к сфере сознания не только автора, но и самих героев).
В найденном Неточкой письме к Александре Михайловне таинственный возлюбленный «грешницы» сам порождает указанное соотнесение: «Если б они только знали, как прекрасно было твое чувство! Но они слепы; их сердца горды и надменны; они не видят и вовек не увидят того. Им нечем увидеть! Они не поверят, что ты невинна, даже перед их судом, хотя бы все на земле им в этом поклялось. Им ли это понять! Какой же камень поднимут они на тебя? Чья первая рука поднимет его? О, они не смутятся, они поднимут тысячи камней! Они осмелятся поднять их, затем что знают, как это сделать. Они поднимут все разом и скажут, что они сами безгрешны, и грех возьмут на себя! О, если б знали они, что делают!» (2; 243 — 244).
Вне всякого сомнения, смысл приведенных строк письма предполагает сопоставление с повествованием Евангелия от Иоанна: «Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали Ему: Учитель! Эта женщина взята в прелюбодеянии; а Моисей в законе заповедовал нам побивать таких камнями: Ты что скажешь? <…> Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись, сказал им: кто из вас без греха, первый брось на нее камень <…> Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних: и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус <…> сказал ей: женщина! Где твои обвинители? никто не осудил тебя? Она отвечала: никто, Господи. Иисус сказал ей: и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши» (Ин. 8, 3 — 11).
Употребляемые в письме характеристики потенциальных судей «грешницы» («они слепы; их сердца горды и надменны; они не видят и вовек не увидят того. Им нечем увидеть! <…> Они <…> скажут, что они сами безгрешны») тождественны наиболее устойчивым характеристикам книжников и фарисеев (именно книжники и фарисеи приводят ко Христу, искушая Его, взятую в прелюбодеянии женщину), встречающимся в речи Христа. «Лицемеры! хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: приближаются ко Мне люди сии устами своими, и чтут Меня языком, сердце же их далеко отстоит от Меня», «слепые вожди слепых» (Мф. 15; 7 — 8, 14); «горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры <…> вожди слепые <…> Безумные и слепые! <…> Фарисей слепой!» (Мф. 23, 13 — 36); “народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами, и не уразумеют сердцем и не обратятся, чтобы Я исцелил их» (Ин. 12, 40); “некоторые из фарисеев, бывших с Ним, сказали Ему: неужели и мы слепы? Иисус сказал им: если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха; но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас» (Ин. 9, 40 — 41) — таков ряд определений фарисейства, данных самим Богочеловеком.
Автор письма к Александре Михайловне противопоставляет «им» ее мужа: «Он геройски стал за тебя; он спасет тебя; он защитит тебя от этих пересудов и криков <…> он твой спаситель» (2; 243). Этим противопоставлением муж «грешницы» как бы возводится на место Христа, избавившего блудницу от побиения камнями и не осудившего ее. Однако в гневных, разоблачающих словах Неточки, обращенных к Петру Александровичу, противопоставление фарисейскому суду (а следовательно, и уподобление Христу) снимается как мнимое: «Вы хотели удержать над ней (т. е. над «грешной» женой — Ф. Т.) первенство и удержали. Но для чего? Для того, чтобы восторжествовать над призраком, над расстроенным воображением больной, для того, чтоб доказать ей, что она заблуждалась и то вы безгрешнее ее! И вы достигли цели, потому что это подозрение ее — неподвижная идея угасающего ума, может быть, последняя жалоба разбитого сердца на несправедливость приговора людского, с которым вы были заодно» (2; 266).
Идентичная ситуация, в менее развернутом варианте, выстраивается в «Маленьком герое», участники которой — m-me М*, ее муж и Н-й, ее возлюбленный. И если звучание отсылок к евангельскому повествованию о Христе и грешнице здесь приглушено, ощущаясь лишь в повторении тех художественных деталей, коими такие отсылки сопровождались в предыдущих произведениях (главным образом, в «Неточке Незвановой»), то характеристика «прощающего» (мужа m-me М*) дана в более развернутом виде. «Называли его умным человеком. Так в иных кружках называют одну особую породу растолстевшего на чужой счет человечества, у которой вместо сердца кусок жира <…> Впрочем, некоторые из этих забавников именно на то метят, чтоб все думали, что у них вместо сердца не жир, а, напротив, говоря вообще, что-то очень глубокое. Они, например, почти уверены, что у них чуть ли не весь мир на оброке <…> что все, кроме них, дураки <…> что они всему хозяева и что весь этот похвальный порядок вещей происходит именно от того, что они такие умные и характерные люди. В своейбезмерной гордости они не допускают в себе недостатков <…> Для совестного внутреннего суда, для благородной самооценки их никогда не хватит: для иных вещей они слишком толсты. На первом плане у них всегда и во всем их собственная золотая особа, их Молох и Ваал, их великолепное я. Вся природа, весь мир для них не более как одно великолепное зеркало, которое и создано для того, чтоб мой божок беспрерывно в него на себя любовался и из-за себя никого и ничего не видел» (2; 275 — 276).
В приведенном описании черты «прощающего» доводятся до предельно отталкивающего образа самозванного «божества» — до некоего итога внутреннего развития подобной духовной установки. Употребленное же понятие «умного человека» сохранится до последнего романа Достоевского, применяясь к автору поэмы о великом инквизиторе, «взявшем грех на себя», именно в «инквизиторском» ракурсе (выражение «умный человек» звучит в «Братьях Карамазовых» в устах «двойников» Ивана — Смердякова и Ракитина). В подобном ракурсе предстает оно еще в «Хозяйке» в облике старика Мурина, властвующего над «слабым сердцем» Катерины. Т. е. в своем окончательном воплощении образ «прощающего» будет обрисован под знаком сознательного противостояния Христу и присоединения к тому, кто искушал Его в пустыни.
Итак, своеобразие ситуации, вокруг которой выстраивается система образов и разворачивается их взаимодействие в ранних произведениях Достоевского — в том, что герой (обладающий идеей, мечтатель), стремящийся возвыситься над героиней до божества, занять для нее место Бога, чтобы с высоты «безгрешности» «простить» «грешницу», может осуществить это, естественно, лишь путем «проматывания» чужого «богатства», т. е. будучи сам «блудным сыном», попадая в дурную бесконечность замкнутого круга.
Та же логика сохраняется и в послекаторжном творчестве писателя, начиная с «Села Степанчикова», где образ «маленького человека» с «сверхчеловеческими» мечтаниями Фомы Фомича Опискина заостренно-карикатурно выведен именно в фарисейском облике.. «Он читал вслух душеспасительные книги, толковал с красноречивыми слезами о разных христианских добродетелях; рассказывал свою жизнь и подвиги; ходил к обедне и даже к заутрене, отчасти предсказывал будущее; особенно хорошо умел толковать сны и мастерски осуждал ближнего» (3; 8). Последний из перечисленных атрибутов образа Фомы Фомича, выставляющий предшествующие иронически как проявление лицемерия, задает развитие этого образа в воплощении основных качеств, свойственных евангельским фарисеям и книжникам, постоянно и озлобленно противостоявшим Христу. Признаки поведения Опискина — искание первенства во всем вплоть до мелочей, «ученость» и «учительность», лицемерие (постоянный эпитет в словах Христа о фарисеях — см. Мф. 23, 13 — 32) — как раз таковы, каковыми характеризует поведенческую реализацию фарисейства Христос: «связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их; все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди: расширяют хранилища свои и увеличивают воскрилия одежд своих; также любят предвозлежания на пиршествах и председания в синагогах и приветствия в народных собраниях, и чтобы люди звали их: учитель! учитель! (Мф. 23, 4 — 7). Один из гостей Ростанева, приживальщиком коего является Фома Опискин, Бахчеев, наделяет Фому эпитетом «ехидна» в связи с «не помещающимся в себе самом» самолюбием Опискина (3; 28), т. е. в том же смысле, в каком так называют фарисеев Иоанн Креститель (Мф. 3, 7) и Христос (Мф. 23, 23).
Фарисейство как ядро личности Фомы Фомича осуществляется присвоением этим героем себе апостольских функций, его (исключительно словесным) «жизнетворчеством» по образцу, взятому из Евангелия. «Прогневанный» предложенными полковником Ростаневым «иудиными сребренниками» (т. е. сопоставляя себя с преданным Иудой Христом), Фома торжественно «изрекает»: «И будьте уверены, что завтра же я отрясу прах с моих сапогов на пороге этого дома» (3; 84), применяя к себе наставление Христа апостолам: «А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрясите прах от ног ваших; истинно говорю вам: отраднее будет земле Содомской и Гоморрской в день суда, нежели городу тому» (Мф. 10, 14 — 15). Торжественная фраза Опискина порождена его постановкой себя апостолом Степанчикова. Речь героя приправлена апостольскими поучениями. «Ступайте же, спешите, летите и поправьте обстоятельства своим послушанием. Да не зайдет солнце во гневе вашем!» — наставляет Фома полковника Ростанева (3; 91), «цитируя» одно из посланий апостола Павла: «гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдет во гневе вашем» (Ефес. 4, 26). Он непосредственно навязывает восприятие себя как возвестителя высшего, небесного учения: «Прежде кто вы были? — говорит, например, Фома.— На кого похожи вы были до меня? А теперь я заронил в вас искру того небесного огня, который горит теперь в душе вашей. Заронил ли я в вас искру или нет? (3; 16 — ср. у апостола Павла: И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, <…> Бог, богатый милостью, по Своей великой любви <…> оживотворил со Христом»; «Итак помните, что вы, некогда язычники по плоти, <…> были в то время без Христа, <…> чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки Кровию Христовою <…> Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу <…> Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас язычников» — Ефес. 2; 1 — 5, 11 — 13, 19; 3, 1).
Существо образа определяет и смысл поведенческой логики персонажа, открывающейся в сюжетном действии произведения. «Начали с того, что тотчас же доказали дяде, что он груб, нетерпелив, невежественен и, главное, эгоист в высочайшей степени. Замечательно то, что идиотка-старуха сама верила тому, что она проповедовала. Да я думаю, и Фома Фомич также, по крайней мере отчасти. Убедили дядю в том, что Фома ниспослан ему самим Богом для спасения души его и для усмирения го необузданных страстей, что он горд, тщеславится своим богатством и способен попрекнуть Фому Фомича куском хлеба. Бедный дядя очень скоро уверовал в глубину своего падения, готов был рвать на себе волосы, просить прощения» (3; 14).
Механизм взаимоотношений героев строится на установлении видимого, внешнего порядка, полностью противоположного внутреннему сущесту. Расточитель чужого достояния превращает своего благодетеля в «блудного сына» (полковника Ростанева называют «непочтительным сыном», «непокорным сыном» — 3; 9), чтобы быть его «прощающим» «врачевателем» души. Кульминация в развитии этой ситуации, являющаяся кульминаией всего хода событий, настает в момент грозы в день именин сына полковника Ростанева Илюши. Она состоит «обличении» и «суде» Фомы над «блудницей» — гувернанткой Настенькой, «взятой в прелюбодеянии»: «Я распространю эту тайну,— визжал Фома,— и сделаю наиблагороднейший из поступков! Я на то послан самим Богом, чтобы изобличить весь мир в его пакостях! Я готов взобраться на мужичью соломенную крышу и кричать о вашем гнусном поступке всем окрестным помещикам и всем проезжающим! <…> Да, знайте все, все, что вчера, ночью, я застал его с этой девицей, имеющей наиневиннейший вид, в саду, под кустами!» (3; 139).
Свое «обличение» Фома строит как возвещение Божией правды, воплощенное по евангельскому образцу: «Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете: и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях» (Мф. 10, 26 — 27). Таким образом, Фома усваивает себе функцию Божьего суда (ср.: «Иисус же сказал им: истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною,— в пакибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых» — Мф. 19, 28).
Однако реализация им функции в этот момент действительного обнаружения тайного и сокровенного (полковник Ростанев скрывал свою любовь к Настеньке даже от себя самого) есть восстановление в ситуации, бывшей перевернутой, соответствия с ее невидимой внутренней правдой. Поступок Фомы по своему смыслу — коррелят евангельского: «Тут книжники и фариси привели к Нему женщину, взятую в прелдюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали Ему: Учитель! эта женщина взята в прелюбодеянии; а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями» (Ин. 8, 1 — 5). Произнесенное Опискиным оскорбление («из наиневиннейшей доселе девицы вы успели сделать развратнейшую из девиц! — 3; 139) — пущенный в «грешницу» камень.
Исполнение суда совершается изгнанием Фомы, обнаружившего отсутствие «брачной одежды». Так вновь проявляется смысл метафизической «одежды» души, о котором говорилось в связи с понятием «наготы» (ср. у свт. Иоанна Златоуста: «Под одеждою разумеются дела жизни <…> Войти в нечистой одежде — означает, имея нечистую жизнь, лишиться благодати»). «Жизнетворчество» «не помещающегося в себе» Фомы Опискина — дурная бесконечность попыток скрыть болезненно ощущаемую «наготу», попыток, еще более ее усугубляющих. «Едва только произнес Фома последнее слово, как дядя схватил его за плечи, поверну, как соломинку, и с силою бросил его на стеклянную дверь, ведущую из кабинета во двор дома. Удар был так силен, что притворенные двери растворились настежь и Фома, слетев кубарем по семи каменным ступенькам, растянулся на дворе <…> в эту минуту разразилась сильная гроза; удары грома слышались чаще и чаще, и крупный дождь застучвл в окно» (3; 139). Фома оказывается выброшенным «во тьму внешнюю» разразившейся стихии (гроза здесь становися атрибутом «дня гнева Божия»), в соответстви с концовкой евангельской притчи: «Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: друг! как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Тогда сказал царь слугам: связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов; ибо много званых, а мало избранных» (Мф. 22, 11 — 14).
В «Селе Степанчикове» закон греховного отстаивания-возвеличения «маленьким человеком» своего ego раскрывается Достоевским с акцентированной ироничностью и некоторой карикатурностью. Трагически-заостренно и из глубины внутреннего мира героя изображается его действие в «Записках из подполья» и «Кроткой». В первом из них подпольный парадоксалист вопрошает в отчаянии: «Скажите мне вот что: отчего так бывало, что, как нарочно, в те самые, да, в те же самые минуты, в которые я наиболее способен был сознавать все тонкости «всего прекрасного и высокого», как говорили у нас когда-то, мне случалось уже не сознавать, а делать такие неприглядные деяния, которые <…> ну да, одним словом, которые хоть и все, пожалуй, делают, но которые, как нарочно, приходились у меня именно тогда, когда я наиболее сознавал, что их совсем бы не надо делать?Чем больше я сознавал о добре и о всем этом «прекрасном и высоком», тем глубже я опускался в мою тину и тем способнее был совершенно завязнуть в ней» (5; 102).
Вопрошание недоумевающего героя, напрямую связанное с центральным событием произведения, вызвано действием того духовного механизма, который срабатывает в описываемом «неприглядном деянии» и смысл которого выражался апостолом Павлом: «Ибо не понимаю, что делаю: потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе: потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу Доброго, которого хочу, не делаю, а злое. Которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием; но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти?» (Рим. 7, 15 — 24).
Будучи «пленником закона греховного», герой «Записок из подполья» неизбывно несет в себе внутреннюю установку на уничтожение «другого». Но даже в уничтожении «другого» его незамечанием «подпольный» парадоксалист всецело зависит от этого «другого», что видно как из напряженного философского монолога, постоянно реагирующего на незримое присутствие «другого», так и из повествования о жизненных событиях героя, особенно в сцене проводов школьного товарища Зверкова: «Всеми силами я хотел показать, что могу и без них обойтись; а между тем нарочно стучал сапогами, становясь на каблуки. Но все было напрасно. Они-то и не обращали внимания <…> они <…> молча наблюдали минуты две, серьезно, не смеясь, как я хожу по стенке, от стола до печки, и как я не обращаю на них никакого внимания. Но ничего не вышло: они не заговорили и через две минуты опять меня бросили» (5; 147). Герой нуждается в «другом», чтобы победить его, а победив — «простить», как, например, в мечтаниях о «мщении» Зверкову: «Я скажу: «Смотри, изверг, смотри на мои ввалившиеся щеки и на мое рубище! Я потерял все <…> и все из-за тебя. Вот пистолеты. Я пришел разрядить свой пистолет и… и прощаю тебя» (5; 150). “Прощать” же необходимо человеку «из подполья» для того, чтобы заставить, вынудить любить себя как «победителя»: «Мне мечталось одержать верх, победить, увлечь, заставить их полюбить себя» (5; 141).
Выраженный апостолом Павлом закон улавливает существенную основу неудачи «воскрешения блудницы» — «спасения Лизы. Художественные детали двух главных сцен второй части «Записок из подполья» («По поводу мокрого снега») непосредственно вводят их восприятие к евангельскому эпизоду о прощенной Христом грешнице (Ин. 8, 3 — 11). Герой рисует Лизе “картинки», с помощью которых «справляется» с ее душой («Да и как с молодой такой душой не справиться <…> Давно уже предчувствовал я, что перевернул всю ее душу и разбил ее сердце, и, чем больше я удостоверялдся в том, тем больше желал поскорее и как можно сильнее достигнуть цели <…> И как мало, мало,— думал я мимоходом,— нужно было слов <…> чтоб тотчас же и повернуть всю человеческую душу по-своему. То-то девственность-то! То-то свежесть-то почвы!» — 5; 156, 162, 166). Эти «картинки» воссоздают ситуацию притчи о «блудном сыне» в тот момент ее развития, когда блудный сын «придя же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода; встану, пойду к отцу моему» (Лк. 15, 17 — 18). Человек «из подполья» говорит Лизе: «Доберешься наконец до Сенной <…> Я вон раз видел там на Новый год одну, у дверей. Ее вытолкали в насмешку свои же поморозить маленько <…> Села она на каменной лесенке, в руках у ней какая-то соленая рыба была; она ревела, что-то причитала про свою «учась», а рыбой колотила по лестничным ступеням <…> Ты не веришь, что и ты такая же будешь? <…> И что, если в ту самую минуту, когда она колотила этой рыбой о грязные ступени, пьяная да растрепанная, что, если в ту минуту ей припомнились все ее прежние, чистые годы в отцовском доме» (5; 160 — 161).
Развитие ситуации во второй сцене с Лизой в доме «подпольного» парадоксалиста осуществляется в ключевых категориях «спасать», «воскреситель» (5; 173 — 174). Восприятие первого поступка героя с Лизой как направленного на воскрешающее действие (это восприятие проходит и через его собственное сознание: «Воскреситель-то, бывший-то герой» — 5; 174) подкрепляется произошедши следствием: «- Я оттуда… хочу… совсем выйти,— начала было она <…> она пришла вовсе не для того, чоб жалкие слова слушать, а чтоб любить меня, потому что для женщины в любви-то и заключается все воскресение, все спасение от какой бы то ни было гибели и все возрождение, да иначе и проявиться не может, как в этом» (5; 173, 176).
Но одновременно человек «из подполья» передает свое внутреннее ощущение: «Точно как будто на душе моей лежало какое-то преступление» (5; 165). До этого образ действий героя выражен им фразой «грубо и навязчиво лезут в душу» «стыдливых и целомудренных сердцем людей» (5; 159), выносящей на поверхность смысл стыдного «обнажения». Наконец, в самый приход Лизы он «прорывается» в истерике: «так знай же, знай, что я тогда смеялся над тобой. И теперь смеюсь <…> Меня унизили, так и я хотел унизить; меня в тряпку растерли, так и власть захотел показать <…> Вот что было, а ты уж думала, что я тебя спасать нарочно тогда приезжал, да? <…> Власти, власти мне надо было тогда, игры было надо, слез твоих надо было добиться, унижения, истерики твоей — вот чего надо мне было тогда!» (5; 173). Т. е. обнаруживается построение уже знакомой узловй ситуации («прощающий» герой — «умный человек»).
Данная ситуация, как и в предшествующих произведениях, приводит к перемене «ролей»: «Пришло мне тоже в взбудораженную мою голову, что роли ведь теперь окончательно переменились, что героиня теперь она, а я точно такое же униженное и раздавленное создание, каким она была передо мной в ту ночь,— четыре дня назад» (5; 175). Перемена совершается в милующем, покрывающем «наготу» действии Лизы: «Лиза, оскорбленная и раздавленная мною, поняла <…> то, что женщина всегда прежде всего поймет, если искренно любит, а именно: что я сам несчастлив <…> Тут сердце и во мне перевернулось» (5; 174 — 175).
Но эта перемена может быть названа таковой лишь с точки зрения внешней видимости. В действительности же происходит зримое проявление невидимой внутренней сущности. «Новое» распределение смыслов усугубляется окончательным оскорблением Лизы вследствие невыносимости для человека «из подполья» «живой жизни», которая «с непривычки придавила <…> до того, что даже дышать стало трудно» (5; 176). (Однако таким переходом не упраздняется ни составляющая образа Лизы, обозначенная эпитетом «грешница»,— ср. мысли героя о ней: «это любопытно, это — сродни» (5; 156), ни стремление «подпольного» парадоксалиста к «воскрешающему» поступку — ср. восклицание, вырвавшееся из «перевернувшегося» сердца героя: «Мне не дают… Я не могу быть… добрым!» (5; 175). Созидаемый евангельским повествованием о прощенной Христом блуднице силовой полюс, находясь внутри произведения, но не растворяясь в нем как его атрибут, формирует его на уровне смысла: действие в произведении напряженно реагирует на присутствие этого полюса, помещаясь на ту глубину, где становится дотупен для охвата и восприятия масштаб изображаемых поступков, объясняющий, кстати, постоянный у Достоевского и как будто бы преувеличенный трагический катастрофизм).
В образующемся едином контексте проанализированных произведений с очевидностью проявляется концепция рассказа «Кроткая». Отправая точка здесь — в идее власти: «я тогда смотрел уж на нее как на мою и не сомневался в моем могуществе» (24; 10). Идея воплощается путем конструирования неравенства («Это меня пленяло, это ощущение неравенства, очень сладостно это, очень сладостно» — 24; 13), причем неравенства особого типа: «план мой был ясен как небо <…> Увидит потом сама, что ут было великодушие, но только она не сумела заметить,— и как догадается об этом когда-нибудь, то оценит вдесятеро и падет в прах, сложа в мольбе руки» (24; 16 — 17).
План героя содержит логику самообожествления, осуществляющуюся в «прощающем» акте. Этот последний подготавливается как ролью героя-освободителя («я ведь знал, что <…> являюсь освободителем» — 24; 11), так и бунтом-преступлением «кроткой». Сцена ее «измены» (свидания с Ефимовичем) и особенно сцена с револьвером (попытка убийства) даются как поединок — «страшный поединок на жизнь и смерть» (24; 21), результат которого — утверждение окончательного в смысле непреодолимости, неустранимости неравенства: «я победил,— и она была навеки побеждена! <…> она была так побеждена, была так унижена, так раздавлена, что я мучительно жалел ее иногда, хотя мне при всем этом решительно нравилась иногда идея об ее унижении. Идея этого неравенства нашего нравилась» (24; 22, 25). Так герой «подготовил себе» (24; 24) “преступницу»: «вдруг она подходит ко мне, становится сама передо мной <…> начала говорить мне, что она преступница, что она это знает, что преступление мучило ее всю зиму, мучает и теперь» (24; 32) — “преступницу» для дарования «прощения» как осуществления «рая»: «Не знаешь ты, каким бы раем я оградил тебя. Рай был у меня в душе, я бы насадил его кругом тебя!» (24; 35).
«Прощение» героем «кроткой», предваренное его «победой» над ней и столь невыносимое для нее, что привдит ее к самоубийству, венчается картиной не «райского», но апокалиптического характера: «Взойдет солнце и — посмотрите на него, разве оно не мертвец? Все мертво, и всюду мертвецы» (24; 35). Ее истоки восходят к повествованию Откровения св. Иоанна Богослова о снятии Агнцем семи печатей с «книги, написанной внутри и отвне» (Откр. 5; 1), а конкретнее, о снятии шестой печати: «И когда Он снял шестую печать, я взглянул, и вот, произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно как власяница, и луна сделалась как кровь» (Откр. 6; 12. Ср. В Евангелии от Матфея: «И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего» — Мф. 24; 29).
Согласно традиционному и хорошо известному в том числе и Достоевскому толкованию св. Андрея Кесарийского, «чернота солнца и темный и кровавый вид луны указывают <…> на душевный мрак тех, которых постигнет гнев Божий», а в целом в повествовании о снятии шестой печати «излагается переход от периода гонений ко времени пришествия антихриста». Вполне созвучно этому толкованию предощущение писателем в душевном мраке «подпольного» человека признаков грядущей апостасии. Достаточно вспомнить его слова из письма В. В. Тимофеевой: «Они не подозревают, что скоро конец всему <…> всем ихним «прогрессам» и болтовне. Им и не чудится, что ведь антихрист-то уж родился и идет! <…> Идет к нам антихрист! Идет! И конец миру близок,— ближе, чем думают».
Итак, «прощение» героя «Кроткой» безусловно противоположно Христову прощению (следует вновь подчеркнуть, что в смысле не противопоставления «идеального образца» и «реальной практики поступков», а выявления внуреннего содержания поступка на определяемом евангельским словом глубинном бытийном уровне). В данном рассказе Достоевского нет очевидно проявленной перемены «ролей», но и здесь смерть «кроткой», которая «была сликом целомудренна, слишком чиста <…> и не захотела <…> обманывать полулюбовью под видом любви или четвертьлюбовью» (24; 33 — 34), высвечивает изнутри (ср. в предисловии «от автора» об уяснении героем правды, о ясно открывающейся ему истине — 24; 5) “наготу» героя: «Нет, серьезно, когда ее завтра унесут, что ж я буду?» (24; 35).
В другом «фантастическом» рассказе «Дневника писателя» Достоевского, в «Сне смешного человека», несомненно, хотя и в редуцированной форме, присутствует тот же идейный пласт. Сну героя предшествует столкновение с восьмилетней девочкой, обиженной им. Это столкновение как застывшее мгновение переходит во «вселенское» пространство сна. Вместе с тем оно является его фактической причиной: «Я знал, что уж в эту ночь застрелюсь наверно, но сколько еще просижу до тех пор за столом,— этого не знал. И уж конечно бы застрелился, если б не та девочка <…> Одним словом, эта девочка спасла меня, потому что я вопросами отдалил выстрел <…> я вдруг и заснул, чего никогда со мной не случалось прежде» (25; 107, 108).
Поступок «смешного человека» с девочкой — реализация логики принятого решения о самоубийстве, делающего героя «всесильным», «божеством» по отношению к миру: «Но ведь если я убью себя, например, через два часа, то что мне девочка и какое мне тогда дело и до стыда, и довсего на свете? <…> Ведь я потому-то и затопал и закричал диким голосом на несчастного ребенка, что, «дескать, не только вот не чувствую жалости, но если и бесчеловечную подлость сделаю, то теперь могу, потому что через два часа все угаснет». Верите ли, что потому закричал? Я теперь почти убежден в этом. Ясным представлялось, что жизнь и мир теперь как бы от меня зависят. Можно сказать даже так, что мир теперь как бы для меня одного и сделан: застрелюсь я, и мира не будет, по крайней мере для меня» (25; 107 — 108).
Событийная сторона рассказа точно воспроизводит смысловую конструкцию вокруг обожествляющего себя и «прощающего» «грешницу» героя. И здесь момент перемены «ролей» вполне очевиден. Оскорбленная девочка пробуждает в сознании «смешного человека» «праздные и лишние» вопросы (25; 108), скрывающие за собой бытийный уровень, недосягаемый прежде для этого сознания. Спасая героя от смерти-самоубийства, она несет то воздействие, на которое он сам претендовал («жизнь и мир теперь как бы от меня зависят»), но имеющее уже подлинную воскрешающую силу: через увиденную истину «смешной человек» приводится к жизни («О, теперь жизни и жизни!») «на тысячу лет» (25; 118).
Как показывает весь целостный контекст произведений Достоевского, стремление «маленького человека» к самовозвеличению и самообожествлению водит его по замкнутому кругу бесконечного возвращения к «разбитому корыту», если вспомнить образ из известной сказки Пушкина, к открывающейся со всей очевидностью собственной духовной несостоятельности, полной внутренней разрухе, подобно евангельскому блудному сыну, оказавшемуся «на стране далече» среди свиней. Но и сам разрушительный итог указывает на столкновение с иной логикой взращивания, созидания человеком своего внутреннего существования и своего отношения к миру, за которой стоят подлинные законы устроения бытия. В этом столкновении, составляющем сюжетное ядро произведений Достоевского, герою бывает милосердно явлена возможность, иногда последняя, духовной перемены, преображения (которое совершается, например, в «Сне смешного человека»), и он ощущает это как некую судьбоносность в пересечении его жизни с жизнью «грешницы» (как правило у Достоевского здесь именно женский персонаж), такого же, на первый взгляд, «маленького человека», но предстающего в абсолютно другом облике и приносящего своим существованием совершенно противоположные плоды.
После смерти своей первой жены Достоевский сделал принципиальную для понимания его творчества запись: «Возлюбить человека, как самого себя по заповеди Христовой,— невозможно. Закон личности на Земле связывает. Я препятствует. Один Христос мог, но Христос был вековечный, от века идеал, к которому стремится и по закону природы должен стремиться человек. Между тем, после появления Христа как идеала человека во плоти стало ясно как день, что высочайшее, последнее развитие личности именно и должно дойти до того (в самом конце развития, в самом пункте достижения цели), чтоб человек нашел, сознал и всей силой своей природы убедился, что высочайшее употребление, которое может сделать человек из своей личности, из полноты развития своего я,— это как бы уничтожить это я, отдать его целиком всем и каждому безраздельно и беззаветно. И это величайшее счастие».
Мысль Достоевского выражает духовный закон, о котором говорит Христос апостолам: «вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими; но между вами да не будет так: а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою; и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом; так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Мф. 20, 25 — 27); и в другом месте: «истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное; итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном» (Мф. 18. 3 — 4). В полную противоположность мечтам о человекобожестве «маленького человека», ощущающего себя вопиюще несправедливо расчеловеченным, «человекомышью», здесь речь идет о христоподобном кенозисе как единственном пути преображения человеческой природы в сторону богочеловечности. Именно о таком пути возвещает евангельская притча, ставшая эпиграфом к последнему роману Достоевского «Братья Карамазовы»: «истинно, истино говорю вам: если пшенчное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода» (Ин. 12, 24).
Кенотическая «умаленность» человека — не загнанность одинокой «мыши» в «подполье» «несправедливых» законов природы, неумолимых, как дважды два четыре, но наоборот, открытость и приятие мира и осознание себя перед лицом Божиим, а вместе с ним — бесконечное развитие, рост, преображение, это «нищета духа», ведущая, как сказано в нагорной проповеди Христа, в Царствие Небесное, которое, опять же согласно евангельскому слову, «внутрь вас есть»(???).
Умаление как отвержение греховного Я, ветхого существа, ведет к приобретению нового естества, в своей целостной полноте причастного и Богу, и всему миру. Об этом говорит Достоевский устами героев-старцев. Старец Зосима в «Братьях Карамазовых», характеризуя современного человека, вспоминает слова своего «таинственного посетителя», что «всякий теперь стремится отделить свое лицо наиболее, хочет испытать в себе самом полноту жизни, а между тем выходит из всех его усилий, вместо полноты жизни, лишь полное самоубийство, ибо, вместо полноты определения существа своего, впадают в совершенное уединение. Ибо все-то в наш век разделились на единицы, всякий уединяется в свою нору, всякий от другого отдаляется, прячется и что имеет прячет и кончает тем, что сам от людей отталкивается и сам людей от себя отталкивает. Копит уединенно богатство и думает: сколь силен я теперь и сколь обеспечен, а и не знает, безумный, что чем более копит, тем более погружается в самоубийственное бессилие. Ибо привык надеяться на себя одного и от целого отделился единицй, приучил свою душу не верить в людскую помощь, в людей и в человечество, а олько трепещет того, что пропадут его деньги и приобретенные им права. Повсеместно нынче ум человеческий начинает насмешливо не понимать, что истинное обеспечение состоит не в личном уединенном его усилии, а в людской общей целостности» (14; 275 — 276).
Созвучны взглядам Зосимы слова тихого и кроткого Макара в романе «Подросток»: «Христос говорт: «Пойди и раздавай твое богатство и стань всем слуга». И станешь богат паче прежнего в бессчетно раз; ибо не пищею только, не платьями ценными, не гордостью и не завистью счастлив будешь, а умножившеюся бессчетно любовью. Уже не малое богатство, не сто тысяч, не миллион, а целый мир приобретешь! Ныне без сытости собираем и с безумием расточаем, а тогда не будет ни сирот, ни нщих, ибо все мои, все родные, всех приобрел, всех до единого купил! <…> Тогда и премудрость приобретешь не из-за единых книг токмо, а будешь с самим Богом лицом к лицу, и воссияет земля паче сона, и не будет ни печали, ни воздыхания, а лишь единый бесценный рай» (??;??).
Парадоксальным, на первый взгляд, образом, отсекая, оставляя мир и даже самого себя, человек приобретает «во сто крат», по евангельскому выражению («всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную» — Мф. 19, 29), поскольку предоставляет в себе место Богу и принимает мир «из рук Христоых, но принимает его уже благолепным, очищенным, освещенным Логосом».
Казалось бы, в первом же романе Достоевского «Бедные люди», как уже отмечалось выше, настроение «райского блаженства» Макара Девушкина, пробужденное «весенними ароматами» и «оживлением природы» и воплощенное в «парочке горшков с бальзамичиком и гераньке» в подарок Вареньке Доброселовой, столь же минутно и так же безвозвратно уходит, как и «золотое детство» самой Вареньки среди «добрых селений» ее родных деревенских мест. А мир «птичек небесных», с которыми сравнил было Вареньку Девушкин и в котором звучит «неумолкаемый концерт» тех, что «не жнут и не сеют», как в финале повести «Маленький герой», напоминающий о нагорной проповеди Христа, настолько отделен от находящегося посреди него человека, что последний выглядит «как мертвец среди всей этой радостной жизни» (2; 293). Однако этот полностью противоположный пустынному мраку одинокого «подполья» мир, в образе коего прорисовываются Достоевским очертания райского сада, напрямую связан именно с духовной судьбой прозревающего его человека.
Ряд ключевых мотивов и представляющих эти мотивы деталей в произведениях писателя, появляющихся в наиболее значимые в духовном смысле для героев моменты их жизни, восходит к образам сада и пронизывающего его небесного света как увиденности в Боге человека и мира в их гармоническом единстве. Такое видение открывается героям Достоевского, когда в их внутреннем мире происходит переворот, когда выбивающее из знакомого и привычного хода жизни событие срывает пелену с их внутренних глаз, и предстает та правда, о которой писатель говорит в своей речи о Пушкине: «Смирись, гордый человек, и прежде всего сломи свою гордость. Смирись, праздный человек, и прежде всего потрудись на родной ниве», вот это решение по народной правде и народному разуму. «Не вне тебя правда, а в тебе самом; найди себя в себе, подчини себя себе, овладей собой — и станешь свободен как никогда и не вображал себе, и начешь великое дело, и других свободными сделаешь, и узришь счастье, ибо наполнится жизнь твоя, и поймешь наконец народ свой и святую правду его. Не у цыган и нигде мировая гармония, если ты первый сам ее недостоин, злобен и горд и требуешь жизни даром, даже и не предполагая, что за нее надобно заплатить».
Узрение в собственной греховности первопричины той неумолимой несправедливости мира, против которой бунтует загоняющий себя в «подполье» «маленький человек», радикально меняет и его мировосприятие, и духовное устроение. Один из ярких примеров — воспоминания старца Зосимы о своем старшем брате Маркеле, умершем в юности от чахотки и почти до самой смерти насмешливо отрицавшем существование Бога (этот персонаж «Братьев Карамазовых» — прямое продолжение типажа Ипполита Терентьева из романа Достоевского «Идиот», желающего из протеста против уродливо несправедливых и неупразднимых законов земной жизни пойти на самоубийство).
Внезапная перемена в душе Маркела, почувствовавшего приближение смерти, совершается в важнейший для церковной жизни христианина период — в Страстную седмицу и пасхальные дни. Мир вокруг умирающего описан Достоевским в радостно-весенних тонах (подобно «неугомонному концерту» тех, что «не жнут и не сеют», в раннем «Маленьком герое»): «Выходили окна его комнаты в сад, а сад у нас был тенистый, с деревьями старыми, на деревьях завязались весенние почки, прилетели ранние птички, гогочут, поют ему в окна» (14; 262 — 263). Это пасхальное радостное состояние становится внутренним достоянием Маркела вместе с сознанием, что «всякий из нас пред всеми во всем виноват, а я более всех» (14; 262. Ср. молитву, читаемую православными хритианами перед причащением Тела и Крови Христовых: «Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси воистину Христос, пришедый грешныя спасти, от них же первый есмь аз»), и с кенотической направленностью построения отношений к другому — ближнему (используя евангельское определение), а не чужому-врагу, как у «маленького человека» из «подполья». «Милые,— восклицает Маркел,— дорогие, и чем я заслужил, что вы меня любите, за что вы меня такого любите, и как я того прежде не знал, не ценил». Входящим слугам говорил поминутно: «Милые мои, дорогие, за что вы мне служите, да и стою ли я того, чтобы служить-то мне? Если бы помиловал Бог и оставил в живых, стал бы сам служить вам, ибо все должны один другому служить <…> пусть же и я буду слугой моих слуг, таким же, каким и они мне» (14; 262).
Видение собственной греховности сопровождается пониманием, что именно она заслоняла светлую гармонию мира: «И стал он вдруг, глядя на них и любуясь, просить и у них прощения: «Птички Божии, птички радостные, простите и вы меня, потому что и пред вами я согрешил <…> была такая Божия слава кругом меня: птички, деревья, луга, небеса, один я жил в позоре, один все обесчестил, а красы и славы не приметил вовсе» (14; 263). Открытое искреннее исповедание греховности и сопутствующее ему всепрощение мгновенно упраздняют это темное средостение. «И одного дня довольно человеку,— говорит Маркел,— чтобы все счастие узнать. <…> Пусть я грешен пред всеми, зато и меня все простят, вот и рай» (14; 262 — 263). “Жизнь есть рай» — его постоянное новое чувство, «и все мы в раю, да не хотим знать того, а если бы захотели узнать, завтра же и стал бы на всем свете рай» (14; 262).
Точно такое же событие происходит в духовной биографии старца Зосимы в годы его молодости, в момент его внезапной внутренней перемены перед дуэлью: «Я вдруг поднялся, спать более не захотел, подошел к окну, отворил — отпиралось у меня в сад,— вижу, восходит солнышко, тепло, прерасно, зазвенели птички. Что же это, думаю, ощущаю я в душе моей как бы нечто позорное и низкое?
<…> И вдруг сейчас же и догадался <…> Экое преступление! Словно игла острая прошла мне всю душу насвозь. Стою я как ошалелый, а солнышко-то светит, листочки-то радуются, сверкают, а птички-то, птички-то Бога хвалят <…> «Господи, <…> воистину я за всех, может быть, всех виновнее, да и хуже всех на свете людей!» И представилась мне вдруг вся правда, во всем просвещении своем» (14; 270). Смелое и прямое публичное признание своей вины и испрашивание прощения, унизительное в глазах «светской публики» и поэтому требующее внутреннего подвига целенаправленного самоумаления от тогда еще молодого офицера, дарует ему в то же мгновение чувство неведомой прежде радости и восторга: «Господа,— воскликнул я вдруг от всего сердца,— посмотрите кругом на дары Божии: небо ясное, воздух чистый, травка нежная, птички, природа прекрасная и безгрешная, а мы, только мы одни безбожные и глупые и не понимаем, что жизнь есть рай, ибо стоит только нам захотеть понять, и тотчас же он настанет во всей красоте своей» (14; 272).
Таким образом, Достоевский стремится показать, что мироощущение и мировосприятие, выражаемое его героями в словах «жизнь есть рай»,— воплощение вполне конкретного закона внутренней жизни человека, исходный пункт которого — в самоотвержении, отсечении греховного, стремящегося к самообожествлению естества. Причем в «райских картинах» нет никакого мечтательства и утопического игнорирования присутствия в мире зла. Об этом свидетельствуют рассуждения старца Зосимы, посвященные библейскому повествованию о страданиях Иова. Исходя не из отвлеченно-рационалистических построений, а из опыта внутреннего переживания «великой тайны человеческой жизни», Зосима говорит о постепенном претворении «старого горя» в «тихую умиленную радость». «Слышал я потом слова насмешников и хулителей,— обращается старец к высказываниям заочных оппонентов, среди которых, конечно, и Иван Карамазов с его поэмой о великом инквизиторе,— слова гордые: как это мог Господь отдать любимого из святых Своих на потеху диаволу, <…> и для чего: чтобы только похвалиться пред сатаной <…> Но в том и великое, что тут тайна,— что мимоидущий лик земной и вечная истина соприкоснулись тут вместе. Пред правдой земною совершается действие вечной правды. Тут Творец, как и в первые дни творения, завершая каждый день похвалою: «Хорошо то, что Я сотворил»,— смотрит на Иова и вновь хвалится созданием Своим. А Иов, хваля Господа, служит не только Ему, но послужит и всему созданию Его в роды и роды и во веки веков, ибо к тому и предназначен был» (14; 265).
Именно как следствие подобного мироощущения и мировосприятия рождаются мысли князя Мышкина в романе «Идиот» о «деревьях»: «Знаете, я не понимаю, как можно проходить мимо дерева и не быть счастливым, что видишь это? Говорить с человеком и не быть счастливым, что любишь его!.. Посмотрите на ребенка, посмотрите на божию зарю, посмотрите на травку, как она растет, посмотрите в глаза, которые на вас смотрят и вас любят…» (??;??). Поэтому и призывает он умирающего от чахотки и «бунтующего» против такой «несправедливости жизни» Ипполита сменить хотя бы на последние свои дни «мейерову стену» на «деревья».
Отголосок этого образа прозвучит затем в «Бесах» в разговоре Кириллова и Ставрогина, когда первый говорит: «Видали вы лист, с дерева лист? <…> Я видел недавно желтый, немного зеленого, с краев подгнил. Ветром носило. Когда мне было десять лет, я зимой закрывал глаза нарочно и представлял лист — зеленый, яркий с жилками, и солнце блестит. Я открывал глаза и не верил, потому что очень хорошо, и опять закрывал» (Д. 7, 225 — 226). В свою очередь «зеленый, яркий с жилками» лист среди зимы — явный предтеча тех самых «клейких листочков», о которых спорят Иван и Алеша в «Братьях Карамазовых». Весь этот ряд восходит, конечно, к образу «дерева жизни» посреди рая — символу вечной жизни, неуничтожимой никакими неумолимыми земными законами, выражаемыми формулой «дважды два четыре».
С. Г. Бочаров, анализируя развити мотива «клейких листочков» от Пушкина к Достоевскому, отмечает, что пушкинские «клейкие листочки» — это «свежее пушкинское слово, обращенное прямо к действительности», «они значительны и они просты: никак не скажешь, что они как-то особенно обоснованы или нагружены «смыслом»»; у Достоевского же «они превращаются в идейную парадигму <…> в своеобразную художественно-философскую категорию и в то же время как бы в цитату из подразумеваемого смыслового контекста». Однако если иметь в виду, подразумевать весь пушкинский поэтический контекст, то вряд ли можно сказать, что Достоевский «нагружает смыслом». Он выговаривает, эксплицирует смысл, заложенный у Пушкина.
По наблюдению С. Г. Бочарова, образ «клейких листочков» в «Братьях Карамазовых» первоначально рождается из уст Ивана вместе с образом «кубка», будучи него символами одного значения — любви к жизни, жажды жизни вопреки всему, вопреки «ахинее», если использовать словечко Ивана. И точно так же у Пушкина, как уже отмечалось, параллельно выстраивается, условно говоря, «вертоградная» и «хмельная» символика.
По ходу спора Ивана и Алеши Карамазовых, как говорит С. Г. Бочаров, последний как бы «отбирает» «листочки» и противопоставляет их безнадежному «кубку», превратившемуся у Ивана из радостно-шиллеровского в грустно-онегинский (тот, что появляется в финале романа в стихах Пушкина: «Блажен, кто праздник жизни рано / Оставил, не допив до дна / Бокала полного вина…» — П. 2; 336); а одновременно и символизация праздника-пира жизни переходит из парадигмы «кубка» в парадигму «листочков» и «всего за ними стоящего «софийного» миропорядка». Однако исследователь не вспоминает главу «Кана Галилейская» в «Братьях Карамазовых», в которой самому Алеше праздник жизни — вечной и небесной, но реально присутствующей в земном существовании — предстает, условно говоря, в парадигме «кубка».
Весьма показательно уже само название главы, отсылающее к новозаветному повествованию о брачном пире в Кане Галилейской, где Христос совершил первое чудо, претворив воду в вино. Это повествование, читаемое над гробом умершего старца Зосимы, вырастает в чудесном сне Алеши — в полном согласии с евангельским смыслом и всем контекстом евангельских притч — в видение брачного пира Царствия Небесного, участиком которого стал и сам преставившийся старец: «Веселимся, <…> пьем вино новое, вино радости новой, великой; видишь, сколько гостей? <…> А видишь ли Солнце наше, видишь ли ты Его? <…> Не бойся Его. Страшен величием пред нами, ужасен высотою своею, но милостив бесконечно, нам из любви уподобился и веселится с нами, воду в вино превращает, чтобы не пресеклась радость гостей, новых гостей ждет, новых беспрерывно зовет и уже на веки веков. Вон и вино несут новое, видишь, сосуды несут…» (14; 327).
Небесный пир в Царствии Божием воплощает высшую, неотмирную, если можно так выразиться, справедливость, явно противопоставленную земной, соблазняющейся властью факта, который ограничивается «кончиком носа» (злорадство одних и смущение других по поводу того, что почивший старец «провонял»). Логика этой небесной милосердной и всеобнимающей, всепризывающей справедливости, дарующей в духовном смысле и простой воде свойства лучшего вина, была запечатлена Достоевским еще в «Селе Степанчикове» в описании именинного пира, «созванного» полковником Ростаневым.
Незваные гости предстоящего именинного пира отмечены каждый некоей страннотью, ненормальностью. «Ну, чудаки! Их как будто нарочно собирали сюда!» — подумал я про себя, не понимая ще хорошенько всего, что происходило перед моими глазами, не подозревая и того, что и сам я, кажется, только увеличи коллекцию этих чудаков, явясь между ними» (3; 49 — 50). Мысли «автора» «записок неизвестного» дополняет реплика одной из героинь: «Гостей-с Егор Ильич наприглашали-с, ученых-с; по большим дорогам ездят, их собирают-с» (3; 47). Объяснение этой ситуации дает евангельская притча: «Царств Небесное подобно человеку царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званых на брачный пир; и не хотели придти <…> Услышав о сем, царь разгневался <…> Тогда говорит он рабам своим: брачный пир готов, а званые не были достойны; итак пойдите на распутия и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых и добрых; и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: друг! Как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Тогда сказал царь слугам: связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю; там будет плач и скрежет зубов;№ ибо много званных, а мало избранных» (Мф. 22, 1 — 14).
Евангелие от Луки дополняет эту притчу тем, что собранные «по улицам и переулкам» гости названы «нищими, увечными, хромыми и слепыми» (Лк. 14, 21). В притче, конечно, имеется в виду увечье не тела, а души. Свт. Иоанн Златоуст, толкуя данный евангельский эпизод, обращается к своей пастве (тем самым проявляя модус восприятия притчи): «Послушайте, откуда вы призваны: с распутия! Что вы были? Хромые и слепые по душе,— что гораздо хуже слепоты телесной. Почтите человеколюбие Призвавшего; и пусть никто да не остается в нечистой одежде, но каждый из нас пусть позаботится об одеяни души своей».
“Непонятные» люди, наполнившие дом в Степанчикове (приживалка Перепелицина, промотавшийся «родственник» Мизинчиков, Обноскин с матерью, «фантасмагорическая» Татьяна Ивановна, которая «на амуре помешана», внезапно появившийся в пьяном виде «ученый» Коровкин, наконец, Фома Опискин, о котором сказано: «Откуда он взялся — покрыто мраком неизвестности» — 3; 7) как бы подчеркнуто отмечены каждый своей собственной «увечностью», что и рождает у нового гостя, «автора» «записок», мысли о нарочно собранных «чудаках», о «бедламе» и «сумасшедшем доме» (3; 42, 49, 77). Эта малость, «обделенность», выраженная даже в фамилиях героев, нисколько не препятствует их участию в именинном празднестве: наоборот, будучи прямо исповедуема, она покрывается, как нагота одеждою, милосердием хозяина пира. Исключение составляет лишь Фома Фомич, самозванно претендовавший обличать чужую «наготу» и в результате спущенный с лестницы «во тьму внешнюю» разбушевавшейся грозы. Но и по отношению к нему исходные мотивы поступков Ростанева описаны в тех же евангельских тонах: «Все странности Фомы, все неблагородные его выходки дядя тотчас же приписывал его прежним страданиям, его унижению, его озлоблению <…> он тотчас же решил в нежной и благородной душе своей, что с страдальца нельзя и спрашивать как с обыкновенного человека; что не только надо прощать ему, но, сверх того, надо кротостью уврачевать его раны, восстановить его, примирить его с человечеством» (3; 15).
Идея «врачевания» еще неоднократно проводится по ходу развития событий в произведении: к ней присоединяются племянник Ростанева Сережа, от лица которого ведется повествование, и ставшая женой Ростанева гувернантка Настенька (3; 37, 164). Эта идея выносит на поверхность тот смысл, что заключен в образе действий царя евангельской притчи и, соответственно, хозяина села Степанчикова. Он был выражен самим Христом: «И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с Ним и учениками Его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам Его: для чего Учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками? Иисус же, услышав это, сказал им: не здоровые имеют нужду во враче, но больные, пойдите, научитесь, что значит: милости хочу, а не жертвы? Ибо Я\пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию» (Мф. 9, 10 — 13).
Та же логика выражена и в главе «Кана Галилейская» «Братьев Карамазовых». Причем мысли слушающего в полусне евангельское чтение Алеши о том, что «не для одного лишь великого страшного подвига Своего сошел Он тогда», что «доступно сердцу Его и простодушное немудрое веселие каких-нибудь темных, темных и нехитрых существ, ласково позвавших Его на убогий брак их», совершенно созвучны словам старца Зосимы, обращенным к Алеше во сне: «Чего дивишься на меня? Я луковку подал, вот и я здесь. И многие здесь только по луковке подали, по одной только маленькой луковке… Что наши дела?» (14; 326 — 327).
Исповедание ничтожной малости «луковки» человеческих дел перед лицом Творца неба и земли становится путем к радостному и всепримиряющему единению с Ним. (В рассматриваемом контексте можно вспомнить также начало «Братьев Карамазовых», попытку игумена монастыря устроить примиряющий обед с Федором Павловичем и разрешить тем самым земельный конфликт с соседом, и, конечно, финал романа, когда Алеша и мальчики, примиренные и утвержденные в «жизни будущего века», отправляются на поминки Илюши.) Причем «малость» становится способной раздвинуться (как стены комнаты в сне Алеши) и вместить в себя, соединить в себе всю вселенную, как это происходит с Алешей после его промыслительного сонного видения: «Над ним широко, необозримо опрокинулся небесный купол, полный тихих сияющих звезд. С зенита до горизонта двоился еще неясный Млечный Путь. Свежая и тихая до неподвижности ночь облегла землю. Белые башни и золотые главы собора сверкали на яхонтовом небе. Осенние роскошные цветы в клумбах около дома заснули до утра. Тишина земная как бы сливалась с небесною, тайна земная соприкасалась со звездною <…> Как будто нити ото всех этих бесчисленных миров Божиих сошлись разом в душе его, и она вся трепетала, «соприкааясь мирам иным». <…> Но с каждым мгновением он чувствовал явно и как бы осязательно, как что-то твердое и незыблемое, как этот сод небесный, сходило в душу его. <…> Пал он на землю слабым юношей, а встал твердым на всю жизнь бойцом и сознал и почувствовал это вдруг, в ту же минуту своего восторга» (14;328).
Кроме того, одна из принципиальных деталей в описании пира в небесной Кане Галилейской — пронизанность светом: о нем говорится и в начале отрывка («дорога-то большая, прямая, светлая, хрустальная, и солнце в конце ее»), и в конце, где Солнцем назван, в полном соответствии с церковным литургическим восприятием, сам Спаситель (14; 326 — 327), и тем самым обозначена природа этого света, отражающегося на сияющем лице представшего Алеше старца Зосимы.
Как и в пушкинской художественной картине мира, у Достоевского подчас чувствование фаворского света, в котором открывает себя преображенное земное бытие, передается через восприятие и переживание, условно говоря, определенных состояний внешнего мира, возводящих к духовной первопричине. Если у Пушкина это связано с образом белого на горе и всем примыкающим к нему смысловым рядом, то в произведениях Достоевского в первую очередь обращают на себя внимание в данном контексте картины с косыми лучами заходящего солнца, возникающие, как правило, в наиболее значимые и переломные моменты жизни героев. Таков в тех же «Братьях Карамазовых» запомнившийся Алеше на всю жизнь эпизод из его детства: «он запомнил один вечер, летний, тихий, отворенное окно, косые лучи заходящего солнца (косые-то лучи и запомнились всего более), в комнате в углу образ, пред ним зажженную лампадку, а пред образом на коленях <…> мать свою, <…> протягивающую его из объятий своих обеими руками к образу как бы под покров Богородице» (14; 18). Также и в детстве старца Зосимы в запомнившийся на всю жизнь момент, когда его старший брат, умирая, прощался с ним и велел жить за себя, «солнце закатывалось и всю комнату осветило косым лучом» (14; 263).
Устами предчувствующего свою близкую смерть Зосимы Достоевский как бы и комментирует эту художественную деталь, акцентируя передаваемое ею умонастроение и мироощущение: «благословляю восход солнца ежедневный, и сердце мое по-прежнему поет ему, но уже более люблю закат его, длинные косые лучи его, а с ними тихие, кроткие, умиленные воспоминания, милые образы изо всей долгой и благословенной жизни — а надо всем-то правда Божия, умиляющая, примиряющая, всепрощающая!» (14; 265). В этом ясном тихом свете «косых лучей» восприятие земного существования происходит не изнутри «видимо-текущего», как говорил Достоевский о фотографическом «реализме», ограничивающемся «кончиком своего носа», а переносится в область «правды Божией», в ту область, с высоты которой земной путь обозрим весь целиком, охватываемый его неземным смыслом, неземной конечной целью и итогом.