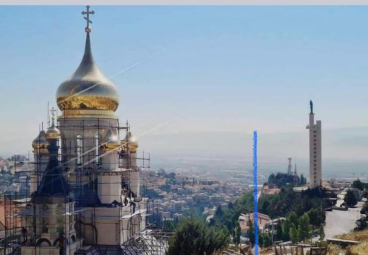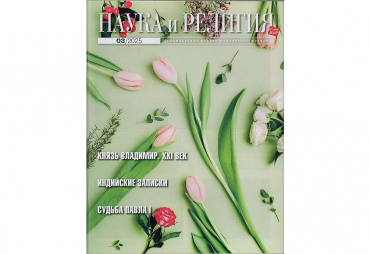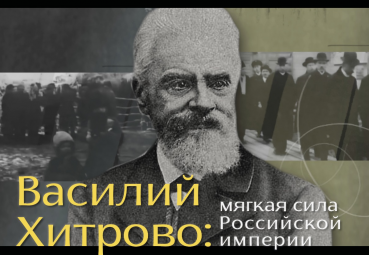Драматическая коллизия в стихотворении Анны Ахматовой «Рахиль».Т. В. Игошева
Стихотворение «Рахиль» было написано в 1921 г.
В основу разбираемого стихотворения положен эпизод из Книги Бытия, повествующий об Иакове и Рахили. Причем в этом сюжете Ахматова опускает те детали, которые не имеют прямого отношения к истории любви Рахили и Иакова.
В Библии читаем: «У Лавана же было две дочери; имя старшей: Лия, имя младшей: Рахиль. Лия была слаба глазами, а Рахиль была красива станом и красива лицом. Иаков полюбил Рахиль и сказал: я буду служить тебе семь лет за Рахиль, младшую дочь твою… И служил Иаков за Рахиль семь лет; и они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее» (Быт 29, 16–18, 20). В библейском тексте не сказано, что Рахиль также полюбила Иакова. В тексте же Ахматовой в центре находится именно Рахиль, любящая и страдающая женщина (на что указывает и заглавие стихотворения).
В Библии нет подробностей психологического состояния Иакова, имеется лишь скупая констатация факта: «Иаков полюбил Рахиль». В ахматовском стихотворении передано психологическое состояние Иакова. И здесь обращает на себя внимание то, что в любовном чувстве Иакова отсутствует драматизм, это, скорее, любовная тоска:
Но стало в груди его сердце грустить,
Болеть, как открытая рана…
Не Иаков, а Рахиль «переживает любовную страсть, неожиданно обернувшейся мукой»[2], как заметил В. В. Мусатов по поводу лирической героини ранней Ахматовой. Тот же исследователь писал, что стихи Ахматовой «не сюжетны, но к о л л и з и й н ы»[3].
Действительно, внутренняя структура лирики Ахматовой существенным образом ориентирована на драму, и прежде всего — на античную трагедию. Так, для своего стихотворения автор отбирает в повествовании об Иакове и Рахили наиболее драматические его повороты. Ахматову вообще интересует не столько эпическое течение рассказа, сколько скрытая в нем драматическая коллизия. Именно ее она и угадывает в библейском сюжете об Иакове и Рахили. Для Ахматовой библейский сюжет является тем первоисточником, который еще предстоит обработать по образцу античных трагиков, претворявших древний миф в насыщенное драматизмом действие. Думается, что особенно важным для Ахматовой был опыт Еврипида, совершавшего значительные отступления от традиционного изложения мифа, благодаря чему основное внимание в его трагедиях концентрировалось на переживаниях героев. Как известно, именно Еврипид открыл самостоятельную ценность человека и его душевных переживаний. В еврипидовских трагедиях Ахматову мог привлекать, по-видимому, перенос художественного внимания с собственно трагической ситуации на героя, его поведение в предлагаемых трагических обстоятельствах, сама возможность раскрыть в этом поведении душевные качества человека.
Перед читателем разворачивается душевная драма оскорбленной женщины, которая и является центральным «событием» стихотворения Ахматовой. В подобном переключении с внешних событий на душевную жизнь в момент ее драматического противостояния внешним и внутренним обстоятельствам чувствуется ориентация как раз на образцы античной драмы. В. Ярхо отмечал, что «изображаемый Еврипидом человек, находясь во власти своих чувств и мыслей, не пытается соотнести их с какими-либо объективно существующими нормами: в нем самом находится источник трагического конфликта»[4].
Ахматовская Рахиль и не соотносит собственных чувств оскорбления, гнева и душевной муки с тем, что произошло на самом деле. Напомним: Лаван изменяет своим обещаниям выдать за Иакова Рахиль. И более того, обманным путем в брачный покой к Иакову он вводит вместо Рахили «незрячую Лию»[5]. В Книге Бытия эпизод излагается вполне бесстрастно. Лаван в нем лишь исполнитель отцовского долга, он находится на страже принятых норм родовой жизни: «В нашем месте так не делают, чтобы младшую выдать прежде старшей…» (Быт 29, 26).
У Ахматовой он также представляет родовое сознание в целом. Но при этом она дает Лавану, не сочувствующему любви Иакова и Рахили, ряд отрицательных характеристик: «жалость ему незнакома», «сребролюбец». Дело в том, что для родового сознания любовь есть сила, обеспечивающая плодородие земли и сохранение человеческого рода, одно из проявлений всеобщего закона природы. Поэтому Лаван и стоит на страже коллективной нормы, так как ее нарушение грозит благополучию всего рода в целом:
Он думает: каждый простится обман
Во славу Лаванова дома.
Для Рахили же любовь является чувством сугубо индивидуальным, над которым не властен род. Для Лавана любовь — источник естественной и общественной гармонии, для Рахили — причина внутренней трагедии, так как именно любовь «вычленяет», «выталкивает» ее из родового коллектива, оставляет ее наедине с собой. Родовая норма в лице Лавана становится силой, противостоящей любви, мешающей соединению любящих друг друга Рахили и Иакова. Рахиль — в отчаянии. Но это гневное и одновременно бессильное отчаяние изливается отнюдь не на Лавана — непосредственного виновника свершившегося обмана. Виноват кто угодно (сестра-соперница, Бог), только не Лаван:
И стонет Лаванова младшая дочь,
Терзая пушистые косы.
Сестру проклинает и Бога хулит,
И Ангелу Смерти явиться велит.
Образ Ангела Смерти отсутствует не только в сюжете об Иакове и Рахили, но и в Библии в целом. Однако вспомним, что этот образ присутствует в постбиблейских текстах иудаистов (Самаэль).
На наш взгляд, образ Ангела Смерти в «Рахили» может иметь и литературные источники. Назовем некоторые из них. Как известно, М. Ю. Лермонтов в 1831 г. написал неоконченную поэму, которая так и называется — «Ангел смерти». Кроме того, в том же году им была создана поэма «Азраил». Собственно говоря, Азраил в мусульманской мифологии и есть Ангел смерти. Лермонтов разрабатывает образ Азраила в русле своей поэтической концепции Демона с его мировой тоской и земной любовью, данной ему в наказание Богом.
Ангел смерти у Лермонтова — это своеобразный вариант падшего ангела. А. А. Блок — лермонтовский наследник — оставил нам не только своего Демона, но и своего Азраила в стихотворении 1913 г.:
Милый друг, и в этом тихом доме
Лихорадка бьет меня.
Не найти мне места в тихом доме
Возле мирного огня!
Голоса поют, взывает вьюга,
Страшен мне уют…
Даже за плечом твоим, подруга,
Чьи-то очи стерегут!
За твоими тихими плечами
Слышу трепет крыл…
Бьет в меня светящими очами
Ангел бури — Азраил[6]!
В этом же ряду воспринимается и стихотворение О. Мандельштама «Ветер нам утешенье принес…», последняя строфа которого выглядит, как известно, следующим образом:
И, с трудом пробиваясь вперед,
В чешуе искалеченных крыл,
Под высокую руку берет
Побежденную твердь Азраил[7].
Правда, это стихотворение написано почти на год позже ахматовской «Рахили» (Ахматова написала свое стихотворение в декабре 1921 г., Мандельштам — в ноябре 1922 г.). Но оно свидетельствует, что образ Азраила, Ангела смерти, активно присутствовал как в общекультурном сознании 1920-х годов, так и в сознании поэтов-акмеистов. Образ Ангела смерти в восточном его варианте имеется в арабской сказке «Дитя Аллаха» Н. С. Гумилева, опубликованной впервые в 1917 г.
Однако для самой Ахматовой, помимо акмеистского контекста, существенным явилось и то, что похожий образ присутствовал в античной трагедии. Точнее, он появился в переводе И. Анненского, который имя бога Танатоса перевел как «Демон смерти». В «Алкесте» Еврипида, переведенной Анненским, Демон смерти является действующим лицом. И описывает его Анненский как Демона, за плечами которого — два мощных черных крыла, что позволяет провести некоторую аналогию с Ангелом Смерти.
И еще: мифологема Ангела Смерти присутствовала и в личном, биографическом, «бытовом» мифе самой Ахматовой. Об этом свидетельствует, например, письмо Н. Пунина Ахматовой, отправленное из Японии в июне 1927 г. Пунин писал: «На мрачный твой возглас об Ангеле-Смерти — мне, в моем тленном счастьи, с Японией — этим небесным подарком в руках, подобает ответить: и смертию смерть поправ»[8].
Итак, образ Ангела Смерти присутствует как в иудаизме, так и в мусульманской мифологии, родственный ему образ существовал и в античной мифологии. Ахматова же, вводя образ Ангела Смерти в библейский сюжет своего стихотворения, словно стремится укоренить его в собственно христианской традиции.
При этом внутри лирического сюжета остается неясным, к кому же именно должен явиться Ангел Смерти? Возможные варианты ответа: к отцу, к ней самой, к Иакову. Вина Лавана ясна. Вина Иакова проясняется только в последней строфе стихотворения. Приснившаяся Иакову Рахиль обвиняет его в измене:
Иаков, не ты ли меня целовал
И черной голубкой своей называл?
Иаков виноват перед Рахилью в том, что он не почувствовал, не угадал, что в брачном покое с ним не Рахиль — другая.
Об обмане Лавана знают все: сам Лаван, незрячая Лия и Рахиль. Все, кроме Иакова. Однако при этом в стихотворении не разыгрывается трагедии незнания, как, например, в «Эдипе-царе» Софокла. Единственная вина Эдипа, по замечанию Андре Боннара, заключалась в необходимости для человека действовать в мире, законы которого ему неизвестны[9]. Трагедия Эдипа — это именно трагедия незнания: Эдип, не зная, нарушает гармонию космоса, его порядок и норму.
Подобной трагедии «не знающий» Иаков не переживает: его реакция на Лаванов обман вообще остается неизвестной читателю. И более того, в то время, когда Рахиль, узнавшая об обмане, «терзает пушистые косы» свои, Иакову снится «сладостный час» первой встречи с Рахилью: он до конца остается в неведении о произошедшей подмене. Не знающий Иаков, в противоположность не знающему Эдипу, не нарушает мировой гармонии, той космической нормы, которая в данном случае приравнивается нормам родовым, а напротив, призван поддержать «славу Лаванова дома».
Не Иаков, а Рахиль готова оспорить родовую норму, которая для нее равна миропорядку космоса в целом. Поэтому, собственно говоря, и хулит она не собственного отца, а Бога, Отца всех людей и родоначальника этого миропорядка. Лаван лишь частное проявление божественной идеи отцовства. При этом в противовес идее рода Рахиль утверждает существование более высокой реальности, которая ей открылась в любви к Иакову. За эту любовь она готова на все. И, думается, призывая Ангела Смерти, Рахиль сама еще не отдает себе отчета, к кому именно она его зовет, но существенным остается то, что мысль о смерти первой приходит ей в голову.
Любопытную аналогию такому поведению ахматовской героини мы находим в еврипидовской трагедии «Медея». Ясон, бросивший Медею с двумя детьми, собирается жениться на дочери коринфского царя. Этот союз для него более выгоден, чем тот, который был заключен с Медеей-чужеземкой. Узнав об этой измене, Медея призывает смерть. Делая это, она еще не знает, на кого обрушится эта смерть.
Увы!
О, злы мои страдания. О!
О, смерть! Увы! О, злая смерть[10]!
Затем мысль о смерти у Медеи начинает принимать более конкретные очертания. Она не видит смысла жизни и хочет умереть:
О, ужас! О, ужас!
О, пусть небесный Перун
Пронижет мне череп!..
О, жить зачем мне еще?
Увы мне! Увы! Ты, смерть, развяжи
Мне узлы — я ее ненавижу…[11]
Однако такой выход — самый простой и недостойный для мужественной натуры Медеи. В этом случае Ясон остался бы не отмщенным. Поэтому на смену мысли о самоубийстве приходит мысль убить Ясона и его новую жену:
О, если б теперь
Его и с невестой увидеть -
Два трупа в обломках чертога[12]!
Однако Медея хочет не столько физически уничтожить Ясона, сколько заставить страдать его морально, так же, как страдает она сама. Поэтому у нее рождается поистине ужасный замысел — стать убийцей своих детей.
В отличие от Медеи, Рахиль не проясняет, к кому же именно должен явиться Ангел Смерти. Да по большому счету это оказывается и неважным, потому что Рахиль, охваченная страстью, переживает, по существу, переросшее ее внеличностное чувство, которое способно обернуться к миру и к ней самой своей разрушительной стороной. И вновь аналогию подобного поворота событий мы найдем у Еврипида — в его трагедии «Ипполит».
Здесь необходимо вспомнить о том, что Федра, охваченная любовной страстью к Ипполиту, сама стала жертвой Афродиты, ведшей спор с Артемидой, которой поклонялся Ипполит. То есть страсть Федры, внушенная Афродитой, имела надличностное происхождение. В сюжете трагедии эта страсть оборачивается смертью, которая не пощадила ни возлюбленного Федры, ни ее саму.
В «Рахили» Ахматова ставит проблему любовного чувства, которое являет себя миру не столько идиллически и гармонически, сколько драматически, трагедийно. Рахиль сама является источником трагического конфликта. Трагизм Рахили укладывается в классический «трагизм ситуации», когда любовное чувство предстает своей гибельной или созидательной стороной в зависимости именно от самой ситуации, внутри которой в данный момент находится героиня.
______________
Примечания
[1]. Цит. по: Ахматова А. А. Соч.: В 2 т. Т.1. М., 1996. С.152.
[2]. Мусатов В. В. Пушкинская традиция в русской поэзии первой половины ХХ века. М., 1998. С. 326.
[3]. Там же.
[4]. Ярхо В. Драматургия Еврипида и конец античной героической трагедии // Еврипид. Трагедии. Т. 1. М., 1969. С. 20.
[5]. Ср. с мотивом «подмены в брачном покое» в «Гондле» Н. С. Гумилева.
[6]. Блок А. А. Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. Т. 3. М., 1997. С. 192–193.
[7]. Мандельштам О. Собр. соч.: В 4 т. Т. 2. М., 1993. С. 40. Благодарю В. В. Мусатова, указавшего на созвучие ахматовского образа Ангела Смерти с мандельштамовским Азраилом.
[8]. Пунина И. Н. Из 1992. С. 440.
[9]. Боннар Андре. Греческая цивилизация. От Антигоны до Сократа. М ., 1992. С. 120.
[10]. Еврипид. Трагедии. Т. 1. М., 1969. С. 111.
[11]. Там же. С. 114.
[12]. Там же.
Игошева Т. В.
преподаватель кафедры русской литературы Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого
Опубл.: Игошева Т. В. О драматической коллизии в стихотворении Анны Ахматовой «Рахиль»// Вестник Новгородского университета. Серия Гуманитарные науки. 2000. № 15
И встретил Иаков в долине Рахиль,
Он ей поклонился, как странник бездомный.
Стада подымали горячую пыль,
Источник был камнем завален огромным.
Он камень своею рукой отвалил
И чистой водою овец напоил.
Но стало в груди его сердце грустить,
Болеть, как открытая рана,
И он согласился за деву служить
Семь лет пастухом у Лавана.
Рахиль! Для того, кто во власти твоей,
Семь лет — словно семь ослепительных дней.
Но много премудр сребролюбец Лаван,
И жалость ему незнакома.
Он думает: каждый простится обман
Во славу Лаванова дома.
И Лию незрячую твердой рукой
Приводит к Иакову в брачный покой.
Течет над пустыней высокая ночь,
Роняет прохладные росы,
И стонет Лаванова младшая дочь,
Терзая пушистые косы.
Сестру проклинает, и Бога хулит,
И Ангелу Смерти явиться велит.
И снится Иакову сладостный час:
Прозрачный источник долины,
Веселые взоры Рахилиных глаз
И голос ее голубиный:
Иаков, не ты ли меня целовал
И черной голубкой своей называл[1]?
Он ей поклонился, как странник бездомный.
Стада подымали горячую пыль,
Источник был камнем завален огромным.
Он камень своею рукой отвалил
И чистой водою овец напоил.
Но стало в груди его сердце грустить,
Болеть, как открытая рана,
И он согласился за деву служить
Семь лет пастухом у Лавана.
Рахиль! Для того, кто во власти твоей,
Семь лет — словно семь ослепительных дней.
Но много премудр сребролюбец Лаван,
И жалость ему незнакома.
Он думает: каждый простится обман
Во славу Лаванова дома.
И Лию незрячую твердой рукой
Приводит к Иакову в брачный покой.
Течет над пустыней высокая ночь,
Роняет прохладные росы,
И стонет Лаванова младшая дочь,
Терзая пушистые косы.
Сестру проклинает, и Бога хулит,
И Ангелу Смерти явиться велит.
И снится Иакову сладостный час:
Прозрачный источник долины,
Веселые взоры Рахилиных глаз
И голос ее голубиный:
Иаков, не ты ли меня целовал
И черной голубкой своей называл[1]?
В основу разбираемого стихотворения положен эпизод из Книги Бытия, повествующий об Иакове и Рахили. Причем в этом сюжете Ахматова опускает те детали, которые не имеют прямого отношения к истории любви Рахили и Иакова.
В Библии читаем: «У Лавана же было две дочери; имя старшей: Лия, имя младшей: Рахиль. Лия была слаба глазами, а Рахиль была красива станом и красива лицом. Иаков полюбил Рахиль и сказал: я буду служить тебе семь лет за Рахиль, младшую дочь твою… И служил Иаков за Рахиль семь лет; и они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее» (Быт 29, 16–18, 20). В библейском тексте не сказано, что Рахиль также полюбила Иакова. В тексте же Ахматовой в центре находится именно Рахиль, любящая и страдающая женщина (на что указывает и заглавие стихотворения).
В Библии нет подробностей психологического состояния Иакова, имеется лишь скупая констатация факта: «Иаков полюбил Рахиль». В ахматовском стихотворении передано психологическое состояние Иакова. И здесь обращает на себя внимание то, что в любовном чувстве Иакова отсутствует драматизм, это, скорее, любовная тоска:
Но стало в груди его сердце грустить,
Болеть, как открытая рана…
Не Иаков, а Рахиль «переживает любовную страсть, неожиданно обернувшейся мукой»[2], как заметил В. В. Мусатов по поводу лирической героини ранней Ахматовой. Тот же исследователь писал, что стихи Ахматовой «не сюжетны, но к о л л и з и й н ы»[3].
Действительно, внутренняя структура лирики Ахматовой существенным образом ориентирована на драму, и прежде всего — на античную трагедию. Так, для своего стихотворения автор отбирает в повествовании об Иакове и Рахили наиболее драматические его повороты. Ахматову вообще интересует не столько эпическое течение рассказа, сколько скрытая в нем драматическая коллизия. Именно ее она и угадывает в библейском сюжете об Иакове и Рахили. Для Ахматовой библейский сюжет является тем первоисточником, который еще предстоит обработать по образцу античных трагиков, претворявших древний миф в насыщенное драматизмом действие. Думается, что особенно важным для Ахматовой был опыт Еврипида, совершавшего значительные отступления от традиционного изложения мифа, благодаря чему основное внимание в его трагедиях концентрировалось на переживаниях героев. Как известно, именно Еврипид открыл самостоятельную ценность человека и его душевных переживаний. В еврипидовских трагедиях Ахматову мог привлекать, по-видимому, перенос художественного внимания с собственно трагической ситуации на героя, его поведение в предлагаемых трагических обстоятельствах, сама возможность раскрыть в этом поведении душевные качества человека.
Перед читателем разворачивается душевная драма оскорбленной женщины, которая и является центральным «событием» стихотворения Ахматовой. В подобном переключении с внешних событий на душевную жизнь в момент ее драматического противостояния внешним и внутренним обстоятельствам чувствуется ориентация как раз на образцы античной драмы. В. Ярхо отмечал, что «изображаемый Еврипидом человек, находясь во власти своих чувств и мыслей, не пытается соотнести их с какими-либо объективно существующими нормами: в нем самом находится источник трагического конфликта»[4].
Ахматовская Рахиль и не соотносит собственных чувств оскорбления, гнева и душевной муки с тем, что произошло на самом деле. Напомним: Лаван изменяет своим обещаниям выдать за Иакова Рахиль. И более того, обманным путем в брачный покой к Иакову он вводит вместо Рахили «незрячую Лию»[5]. В Книге Бытия эпизод излагается вполне бесстрастно. Лаван в нем лишь исполнитель отцовского долга, он находится на страже принятых норм родовой жизни: «В нашем месте так не делают, чтобы младшую выдать прежде старшей…» (Быт 29, 26).
У Ахматовой он также представляет родовое сознание в целом. Но при этом она дает Лавану, не сочувствующему любви Иакова и Рахили, ряд отрицательных характеристик: «жалость ему незнакома», «сребролюбец». Дело в том, что для родового сознания любовь есть сила, обеспечивающая плодородие земли и сохранение человеческого рода, одно из проявлений всеобщего закона природы. Поэтому Лаван и стоит на страже коллективной нормы, так как ее нарушение грозит благополучию всего рода в целом:
Он думает: каждый простится обман
Во славу Лаванова дома.
Для Рахили же любовь является чувством сугубо индивидуальным, над которым не властен род. Для Лавана любовь — источник естественной и общественной гармонии, для Рахили — причина внутренней трагедии, так как именно любовь «вычленяет», «выталкивает» ее из родового коллектива, оставляет ее наедине с собой. Родовая норма в лице Лавана становится силой, противостоящей любви, мешающей соединению любящих друг друга Рахили и Иакова. Рахиль — в отчаянии. Но это гневное и одновременно бессильное отчаяние изливается отнюдь не на Лавана — непосредственного виновника свершившегося обмана. Виноват кто угодно (сестра-соперница, Бог), только не Лаван:
И стонет Лаванова младшая дочь,
Терзая пушистые косы.
Сестру проклинает и Бога хулит,
И Ангелу Смерти явиться велит.
Образ Ангела Смерти отсутствует не только в сюжете об Иакове и Рахили, но и в Библии в целом. Однако вспомним, что этот образ присутствует в постбиблейских текстах иудаистов (Самаэль).
На наш взгляд, образ Ангела Смерти в «Рахили» может иметь и литературные источники. Назовем некоторые из них. Как известно, М. Ю. Лермонтов в 1831 г. написал неоконченную поэму, которая так и называется — «Ангел смерти». Кроме того, в том же году им была создана поэма «Азраил». Собственно говоря, Азраил в мусульманской мифологии и есть Ангел смерти. Лермонтов разрабатывает образ Азраила в русле своей поэтической концепции Демона с его мировой тоской и земной любовью, данной ему в наказание Богом.
Ангел смерти у Лермонтова — это своеобразный вариант падшего ангела. А. А. Блок — лермонтовский наследник — оставил нам не только своего Демона, но и своего Азраила в стихотворении 1913 г.:
Милый друг, и в этом тихом доме
Лихорадка бьет меня.
Не найти мне места в тихом доме
Возле мирного огня!
Голоса поют, взывает вьюга,
Страшен мне уют…
Даже за плечом твоим, подруга,
Чьи-то очи стерегут!
За твоими тихими плечами
Слышу трепет крыл…
Бьет в меня светящими очами
Ангел бури — Азраил[6]!
В этом же ряду воспринимается и стихотворение О. Мандельштама «Ветер нам утешенье принес…», последняя строфа которого выглядит, как известно, следующим образом:
И, с трудом пробиваясь вперед,
В чешуе искалеченных крыл,
Под высокую руку берет
Побежденную твердь Азраил[7].
Правда, это стихотворение написано почти на год позже ахматовской «Рахили» (Ахматова написала свое стихотворение в декабре 1921 г., Мандельштам — в ноябре 1922 г.). Но оно свидетельствует, что образ Азраила, Ангела смерти, активно присутствовал как в общекультурном сознании 1920-х годов, так и в сознании поэтов-акмеистов. Образ Ангела смерти в восточном его варианте имеется в арабской сказке «Дитя Аллаха» Н. С. Гумилева, опубликованной впервые в 1917 г.
Однако для самой Ахматовой, помимо акмеистского контекста, существенным явилось и то, что похожий образ присутствовал в античной трагедии. Точнее, он появился в переводе И. Анненского, который имя бога Танатоса перевел как «Демон смерти». В «Алкесте» Еврипида, переведенной Анненским, Демон смерти является действующим лицом. И описывает его Анненский как Демона, за плечами которого — два мощных черных крыла, что позволяет провести некоторую аналогию с Ангелом Смерти.
И еще: мифологема Ангела Смерти присутствовала и в личном, биографическом, «бытовом» мифе самой Ахматовой. Об этом свидетельствует, например, письмо Н. Пунина Ахматовой, отправленное из Японии в июне 1927 г. Пунин писал: «На мрачный твой возглас об Ангеле-Смерти — мне, в моем тленном счастьи, с Японией — этим небесным подарком в руках, подобает ответить: и смертию смерть поправ»[8].
Итак, образ Ангела Смерти присутствует как в иудаизме, так и в мусульманской мифологии, родственный ему образ существовал и в античной мифологии. Ахматова же, вводя образ Ангела Смерти в библейский сюжет своего стихотворения, словно стремится укоренить его в собственно христианской традиции.
При этом внутри лирического сюжета остается неясным, к кому же именно должен явиться Ангел Смерти? Возможные варианты ответа: к отцу, к ней самой, к Иакову. Вина Лавана ясна. Вина Иакова проясняется только в последней строфе стихотворения. Приснившаяся Иакову Рахиль обвиняет его в измене:
Иаков, не ты ли меня целовал
И черной голубкой своей называл?
Иаков виноват перед Рахилью в том, что он не почувствовал, не угадал, что в брачном покое с ним не Рахиль — другая.
Об обмане Лавана знают все: сам Лаван, незрячая Лия и Рахиль. Все, кроме Иакова. Однако при этом в стихотворении не разыгрывается трагедии незнания, как, например, в «Эдипе-царе» Софокла. Единственная вина Эдипа, по замечанию Андре Боннара, заключалась в необходимости для человека действовать в мире, законы которого ему неизвестны[9]. Трагедия Эдипа — это именно трагедия незнания: Эдип, не зная, нарушает гармонию космоса, его порядок и норму.
Подобной трагедии «не знающий» Иаков не переживает: его реакция на Лаванов обман вообще остается неизвестной читателю. И более того, в то время, когда Рахиль, узнавшая об обмане, «терзает пушистые косы» свои, Иакову снится «сладостный час» первой встречи с Рахилью: он до конца остается в неведении о произошедшей подмене. Не знающий Иаков, в противоположность не знающему Эдипу, не нарушает мировой гармонии, той космической нормы, которая в данном случае приравнивается нормам родовым, а напротив, призван поддержать «славу Лаванова дома».
Не Иаков, а Рахиль готова оспорить родовую норму, которая для нее равна миропорядку космоса в целом. Поэтому, собственно говоря, и хулит она не собственного отца, а Бога, Отца всех людей и родоначальника этого миропорядка. Лаван лишь частное проявление божественной идеи отцовства. При этом в противовес идее рода Рахиль утверждает существование более высокой реальности, которая ей открылась в любви к Иакову. За эту любовь она готова на все. И, думается, призывая Ангела Смерти, Рахиль сама еще не отдает себе отчета, к кому именно она его зовет, но существенным остается то, что мысль о смерти первой приходит ей в голову.
Любопытную аналогию такому поведению ахматовской героини мы находим в еврипидовской трагедии «Медея». Ясон, бросивший Медею с двумя детьми, собирается жениться на дочери коринфского царя. Этот союз для него более выгоден, чем тот, который был заключен с Медеей-чужеземкой. Узнав об этой измене, Медея призывает смерть. Делая это, она еще не знает, на кого обрушится эта смерть.
Увы!
О, злы мои страдания. О!
О, смерть! Увы! О, злая смерть[10]!
Затем мысль о смерти у Медеи начинает принимать более конкретные очертания. Она не видит смысла жизни и хочет умереть:
О, ужас! О, ужас!
О, пусть небесный Перун
Пронижет мне череп!..
О, жить зачем мне еще?
Увы мне! Увы! Ты, смерть, развяжи
Мне узлы — я ее ненавижу…[11]
Однако такой выход — самый простой и недостойный для мужественной натуры Медеи. В этом случае Ясон остался бы не отмщенным. Поэтому на смену мысли о самоубийстве приходит мысль убить Ясона и его новую жену:
О, если б теперь
Его и с невестой увидеть -
Два трупа в обломках чертога[12]!
Однако Медея хочет не столько физически уничтожить Ясона, сколько заставить страдать его морально, так же, как страдает она сама. Поэтому у нее рождается поистине ужасный замысел — стать убийцей своих детей.
В отличие от Медеи, Рахиль не проясняет, к кому же именно должен явиться Ангел Смерти. Да по большому счету это оказывается и неважным, потому что Рахиль, охваченная страстью, переживает, по существу, переросшее ее внеличностное чувство, которое способно обернуться к миру и к ней самой своей разрушительной стороной. И вновь аналогию подобного поворота событий мы найдем у Еврипида — в его трагедии «Ипполит».
Здесь необходимо вспомнить о том, что Федра, охваченная любовной страстью к Ипполиту, сама стала жертвой Афродиты, ведшей спор с Артемидой, которой поклонялся Ипполит. То есть страсть Федры, внушенная Афродитой, имела надличностное происхождение. В сюжете трагедии эта страсть оборачивается смертью, которая не пощадила ни возлюбленного Федры, ни ее саму.
В «Рахили» Ахматова ставит проблему любовного чувства, которое являет себя миру не столько идиллически и гармонически, сколько драматически, трагедийно. Рахиль сама является источником трагического конфликта. Трагизм Рахили укладывается в классический «трагизм ситуации», когда любовное чувство предстает своей гибельной или созидательной стороной в зависимости именно от самой ситуации, внутри которой в данный момент находится героиня.
______________
Примечания
[1]. Цит. по: Ахматова А. А. Соч.: В 2 т. Т.1. М., 1996. С.152.
[2]. Мусатов В. В. Пушкинская традиция в русской поэзии первой половины ХХ века. М., 1998. С. 326.
[3]. Там же.
[4]. Ярхо В. Драматургия Еврипида и конец античной героической трагедии // Еврипид. Трагедии. Т. 1. М., 1969. С. 20.
[5]. Ср. с мотивом «подмены в брачном покое» в «Гондле» Н. С. Гумилева.
[6]. Блок А. А. Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. Т. 3. М., 1997. С. 192–193.
[7]. Мандельштам О. Собр. соч.: В 4 т. Т. 2. М., 1993. С. 40. Благодарю В. В. Мусатова, указавшего на созвучие ахматовского образа Ангела Смерти с мандельштамовским Азраилом.
[8]. Пунина И. Н. Из 1992. С. 440.
[9]. Боннар Андре. Греческая цивилизация. От Антигоны до Сократа. М ., 1992. С. 120.
[10]. Еврипид. Трагедии. Т. 1. М., 1969. С. 111.
[11]. Там же. С. 114.
[12]. Там же.
Игошева Т. В.
преподаватель кафедры русской литературы Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого
Опубл.: Игошева Т. В. О драматической коллизии в стихотворении Анны Ахматовой «Рахиль»// Вестник Новгородского университета. Серия Гуманитарные науки. 2000. № 15
Поделиться: