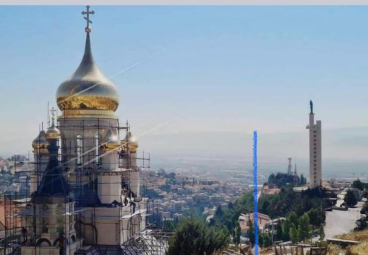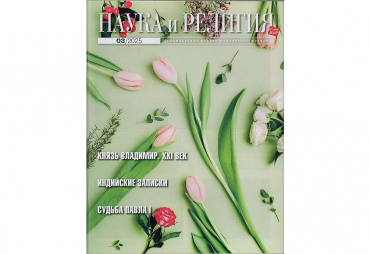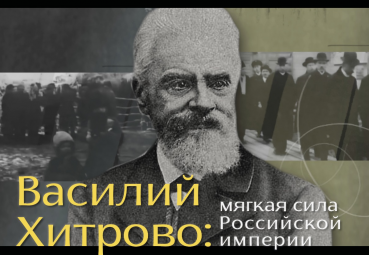«Тайная вечеря» или «Отшествие Иуды»? С.С. Степанова

Н.Н. Ге. Тайная вечеря. 1863.
Государственный Русский музей
Картина Николая Ге «Тайная вечеря», представленная на выставке Императорской Академии художеств в 1863 году, вызвала бурю эмоций.
«Нет, это не тайная вечеря, а открытая вечеринка... Двое поссорились. Один (главное лицо картины) выходит с каким-то дурным намерением или даже угрозой. Другой задумался о происшедшем, в недоумении... Прочие в испуге» (М.П.Погодин). «Главные мотивы избранной задачи поняты у него слабо или неверно. Его Христос не заключил в себе ни одного из тех высоких качеств, под влиянием которых в мире совершился переворот беспримерный, неслыханный: перед нами представлен лишь слабый, бесхарактерный человек, почти растерявшийся в каком-то выдуманном, бог знает откуда взятом споре; перед чем же мог до такой степени упасть духом и уныть Тот, Кто явился для всемирного переворота?» (В.В.Стасов). «Всмотритесь внимательнее: это обыкновенная ссора весьма обыкновенных людей… где же и при чём тут последовавшие восемнадцать веков христианства?... вышла фальшь и предвзятая идея…» (Ф.М.Достоевский). Так откликнулись современники художника на его трактовку традиционного сюжета. Нам сейчас, пожалуй, мало понятен этот взрыв негодования по поводу картины, которая в ряду последующего творчества Ге – с его «Что есть истина?» и «Голгофой» – кажется вполне классической по форме и отнюдь не эпатажной по содержанию.
Достоевского раздражало то, что столь важный библейский сюжет в картине Ге трактован как жанровая сцена, что он переведён в плоскость временной и пространственной определённости, без учёта тех глобальных исторических последствий, которым это сакральное событие положило начало. Однако визуальные искусства живут по иным законам, нежели искусство слова. И воплощение философских категорий здесь гораздо более затруднено, нежели в литературном тексте. Тем более когда речь идёт о светском станковом живописном произведении, а не иконе. Живопись не есть и кинематограф: картина не может вместить несколько пластов времени, развернуть время, так сказать, в историческом или метафизическом измерении. И тем не менее люди думающие, по-настоящему озабоченные духовно-нравственными проблемами, не удовлетворяются чисто иллюстративным (пусть и высокого качества) воплощением евангельского сюжета. Но далеко не все готовы к смелым художественным интерпретациям в этой сфере.
«Тайная вечеря» – один из самых значимых сюжетов мирового искусства. Обращаясь к нему, художники делали акцент или на моменте пророчества о предательстве Иуды («Один из вас предаст Меня»), или на моменте Евхаристии (приятии апостолами хлеба и вина из рук Христа). Так, Леонардо да Винчи в знаменитой росписи трапезной церкви Санта Мария деи Грацие стремился передать всю гамму охвативших апостолов чувств после произнесённых Спасителем слов о грядущем предательстве. А Тинторетто в картине, написанной для венецианской церкви Сан-Джорджо Маджоре, запечатлел момент, когда Христос преломляет хлеб и произносит слова: «Сие есть тело Мое». Это одна из поздних работ художника, обладавшего исключительным даром передавать в религиозных сюжетах глубину чувств и силу духовного потрясения участников мистических событий. Действие разворачивается в бедной таверне, но её пространство, тонущее в полумраке, кажется безграничным. За длинным столом, изображённым под резким углом к плоскости картины, собрались за пасхальной трапезой апостолы. Охваченные единым духовным порывом, взволнованные свершающимся таинством, они привстали со своих мест. Сполохи света и мятущиеся тени стократ усиливают ощущение какого-то невероятного и таинственного события, происходящего на глазах у зрителя. А на переднем плане справа – предметы и фигуры, совершенно не связанные с сюжетом: на полу стоят кувшины и корзина с провизией, в которую заглядывает кошка. Хозяин таверны о чём-то разговаривает со служанкой, подающей ему серебряную вазу со сладостями, другая женщина снимает со стола чашу с фруктами. Казалось бы, жанровые мотивы должны разрушить сакральный смысл происходящего. Но этого не происходит. Бытовые детали только усиливают ощущение чуда: диагональ стола зримо отделяет мир Божественный от мира человеческого, участники трапезы озарены сверхъестественным светом, полупрозрачные фигуры ангелов вьются вокруг обычного масляного светильника, слетают с деревянного потолка. И весь реальный и нереальный мир закручивается в каком-то священном хороводе вокруг свершающегося таинства – Евхаристии. Иуда изображён сидящим с левого края стола, тем самым он отделён от других учеников Христа.
Русский художник академической школы первой половины XIX столетия Василий Кузьмич Шебуев, опираясь на традицию классического искусства, выстраивает уравновешенную фронтальную композицию, в центре которой – спокойная фигура Христа, только что произнёсшего пророческие слова о предательстве. Волнение апостолов передано жестами, взглядами, а чёткая геометрия пространства с П-образным столом усиливает своим визуальным контрастом впечатление охватившего всех беспокойства.
Николай Ге своей трактовкой евангельского события резко обозначил водораздел между традиционным академическим религиозным жанром и новым этапом существования исторической религиозной картины, когда в рамках библейского сюжета художник решает свои, сугубо индивидуальные творческие задачи. Картина А.А.Иванова «Явление Мессии», которую он увидел во время пенсионерской поездки в Рим, показала ему, что у современного искусства могут быть более серьёзные проблемы, чем эффектная компоновка, красивый колорит и сила выражения человеческих страстей. Скорее всего молодого художника глубоко тронуло не столько живописно-пластическое решение картины «Явление Мессии» (вполне сохраняющее классические параметры), сколько индивидуальность творческого метода и авторская позиция Александра Иванова. Римские памятники античности пробуждали стремление к живому восприятию истории: «Во мне воскресла жизнь древних в её настоящем живом размере и смысле, и вот, может быть, начало! Того, что называется чувством «реального в искусстве!» – писал восторженно Николай Ге из Италии. Но это «чувство реального» оказалось и камнем преткновения во всём творчестве художника. «Приехав из Рима во Флоренцию, я разбирал св. Писание, читал сочинение Штрауса и стал понимать св. Писание в современном смысле, с точки зрения искусства». Речь идёт о труде немецкого религиозного философа и протестанта Д.-Ф.Штрауса «Жизнь Иисуса», которым в 1850-е годы был увлечён и Александр Иванов. Через неделю (!) после чтения книги была подмалёвана картина в настоящую величину, без эскиза. В качестве подспорья для решения композиции художник использовал восковые фигурки и однажды был поражён световым эффектом, вызванным упавшим на смоделированную сцену лучом света. Этот эффект с фигурой Иуды в контражуре и был воплощён в картине.
Создавая место действия, Николай Ге следует описанию древнего иудейского быта – белёная комната, минимум мебели и убранства, возлежание за столом. «Верится в эту комнату, «триклиниум», до иллюзии освещённую светильниками, с движущимися широкими тенями по стенам от фигур апостолов, с проблесками глубокой вечерней лазури в окне… драматизму сюжета соответствовала широкая, энергическая живопись», – писал И.Е.Репин об этой картине Ге.
Резкая композиционная асимметрия усиливает напряжённость сцены. В поворотах фигур, в перекрестье взглядов возникают диалоговые силовые линии: Христос – Иуда, Пётр – Иоанн. Но психологический центр происходящего – образ Иуды, он – главный герой, его одинокая фигура противостоит всем. Для Николая Ге Иуда – интересная, значительная личность, а не банальный предатель. Именно фигура Иуды, похожая на тень и оттого очень эстетская, противоречит жанровому решению евангельского сюжета. Он представлен не как изменник, совершающий низкий поступок, а как явный противник Христа, что не соответствует евангельскому тексту. Кроме того, он уходит опознанным в том, что слова Христа указывают на него, а это также расходится с текстом. Тем самым художник вводит зрителя в ситуацию конфликта, спора, принципиального несогласия Иуды с Христом, поскольку Иуда не мог понять Христа – как материалист не может понять идеалиста, считал Ге. Как видим, автор картины предвосхитил ту богословскую, литературную и учёную дискуссию на тему «Иуда Искариот и его роль в евангельской истории», которая, активизировавшись к концу XIX века, продолжается до наших дней.
Но если одни современники не одобряли жанровости в трактовке «Тайной вечери», то другие, напротив, находили в этом новаторство. «Отвергнув всякое предание в искусстве, г. Ге обратился к чистому источнику искусства и внёс в русскую живопись живую струю, которая должна освежить поблекший исторический род живописи и показать, что история и господствующий в нашей школе жанр не подлежат резкому разграничению», – писал А.Сомов.
Особые нарекания вызывал образ Христа. Общество не могло смириться с авторской интерпретацией, очеловечившей Его. Зритель упрекал художника не за то, что он сделал, а за то, чего не сделал. Писатель И.А.Гончаров очень чётко определил некорректность такой оценки произведения Ге: «Никто не даст себе труда договориться до ясного… понятия об образе Иисуса Христа. Но никакая картина никогда и не изображала и не изобразит всей «Тайной вечери», то есть целого вечера и всей трапезы Спасителя, с начала до конца…»
Авторское название картины – «Отшествие Иуды» – чётко определяет смысловой акцент её содержания. Желая уйти от банальной трактовки этого персонажа только как символа алчности и вероломства, Николай Ге пытается нащупать пути проникновения в сакральный смысл того, что связано в Евангелии с фигурой Иуды и его поступком. И в своём стремлении художник оказывается в сфере гуманитарного толкования канонических текстов, возникшего и существующего поныне в противовес догматическому богословию. Многие писатели и мыслители видели в Иуде прежде всего представителя своего народа – иудеев, ожидающих избавителя от римского гнёта и уповавших на Иисуса как на Мессию. «Да, вероятно, и у него были своего рода цели, но это были цели узкие, не выходившие из тесной сферы национальности. Он видел Иудею порабощённою и вместе с большинством своих соотечественников жаждал только одного: свергнуть чужеземное иго и возвратить отечеству его политическую независимость и славу. Всё остальное, все прочие более широкие цели были для него пустым звуком, праздным делом, скорее препятствовавшим, нежели способствовавшим выполнению пламенной его мечты… Не знаю, до какой степени верно я угадал мысль художника в отношении к этой загадочной личности, но думаю, что если в моём толковании и есть погрешность, то она не существенна. По крайней мере вся обстановка картины такова, что не только не опровергает моих догадок, но даже подтверждает их», – так размышлял о картине Николая Ге М.Е.Салтыков-Щедрин.

Н.Н.Ге. Вестники Воскресения. 1867.
Государственная Третьяковская галерея
Несмотря на все нападки, картину «Тайная вечеря» купил сам царь (после революции она попала в собрание Русского музея). Художник получил за неё звание профессора и позже выполнил несколько авторских уменьшенных повторений и рисунок с картины. Однако следующее большое полотно, связанное с евангельской темой – «Вестники Воскресения», вызвало однозначно негативную реакцию. По мысли художника, новая картина продолжала собою прежнюю: за «Тайной вечерей» следует «Воскресение». Как и в предыдущий раз, Николай Ге сам придумывает эпизод, который следует за конкретным евангельским текстом. На фоне утреннего туманного пейзажа он пишет почти летящую женскую фигуру, навстречу которой, занимая правую часть холста, тяжело ступают римские воины. Композиция должна была аллегорически представить антагонизм Магдалины и воинов, света и тени, плоти и духа, старого, языческого мира и нового, христианского... Но желание художника передать страстный порыв и безмерную духовную радость Марии Магдалины, спешащей сообщить апостолам о Воскресении Иисуса Христа, не нашло убедительной художественной формы. Для реалистической трактовки, может быть, не хватило живописности в передаче утреннего состояния природы и выразительности в движении фигуры, для символической – метафоричности всех элементов, иного колористического решения.

Н.Н. Ге. Совесть. Иуда. 1891.
Государственная Третьяковская галерея
Через много лет художник напишет картину «Совесть. Иуда», изобразив ученика, предавшего своего Учителя, как невнятную, закутанную фигуру, со спины: Иуда смотрит в одиночестве на пропадающие во тьме, едва заметные силуэты удаляющихся апостолов и стражников, ведущих Христа. Перед нами не человек, а некое существо на пороге страшного решения – самоубийства. «Иуда мне представляется предателем, первообразом предательства при прогрессе, часто при совершенствовании, а оно есть у всякого желающего быть человеком. Старые низшие потребности, плотские, делают бунт и восстают на человека, и вот он по слабости уступает – вот и предательство. Я сделал так. Христа повели и ведут с факелами; группа эта очень далеко и скоро исчезнет; за ней бегут Пётр и Иоанн. В большом расстоянии идёт тихо Иуда. Он не может бросить, должен идти, но вместе с тем ему нельзя идти, и вот эта нерешительность выражается вполне в этой одинокой фигуре, идущей по той же дороге. Он и дорога залиты лунным светом, а группа удаляющегося Христа вдали по дороге освещена факелами. Ученики же бегут, ещё освещённые луной, вот картина. Сегодня окончательно устроил; и все и я сам чувствую, что правдиво, просто и вероятно…», – писал Н.Ге своему знакомому в конце января 1891-го, работая над картиной в уединении на своём хуторе.
Но картина вызвала больше нареканий и отрицательных оценок, нежели понимания замысла неординарного живописца, в том числе в среде художников, и художников талантливых. «Вот что значит уйти в себя и черпать всё из своей башки только, а не обращаться за советами к природе – матери,– писал П.П.Чистяков, – …искусство – святыня; и служить ему следует свято и честно, а не пачкать кое-как свои измышления. Идея может быть всякая, но искусство – исполнение идеи на плоскости – должно всегда быть законно, честно и умело, конечно, по мере сил и знаний. Ге может очень не худо исполнять, но он шалит и много беса имеет в себе, надеется на себя чересчур. А это самомнение – грех…»
Не оценил исканий психологизма и попытки в иносказательной форме решать актуальные нравственные проблемы и В.Д.Поленов, увидев только живописную невнятность исполнения: «Очень и очень слабая вещь. На чёрно-синем фоне стоит длинная и мягкая тумба, завёрнутая в простыню и освещённая голубым светом, вроде бенгальского огня, а направо, вдали, какие- то жёлтенькие и серенькие мазочки. Это уводят Христа. Ужасно жаль, что так плохо, потому что очень он хороший человек». Но это была не последняя точка в трудном диалоге художника и зрителя…