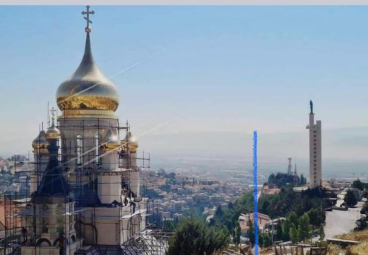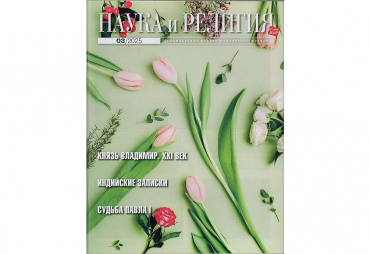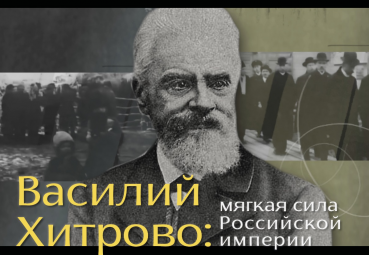В «Евангельском круге» Поленова. Цикл картин «Из жизни Христа». М. В. Петрова
Цикл картин «Из жизни Христа»
Последняя четверть XIX века. Это было время надежды на огромные возможности и потенциал интеллектуальной деятельности человека. Сам Поленов высказался по поводу эпохи «отрицания метафизики и господства позитивизма»[1] откровенно, не скрывая своих симпатий. «Мыслящая часть человечества тех годов, — писал он, — отшатнувшись от метафизики, ухватилась за эмпирические науки, взяв в руководители разум с его наукой логикой»[2], которая, по мнению художника, и «составляет основу учения Христа»[3]. Но позитивизм, взошедший на почве, возделанной просветительскими идеями полезности и граничащим с атеизмом отвержением ортодоксального христианства, обернулся в конечном счете тем, что К. Леонтьев называл «земным гуманным утилитаризмом» с его заботой «о всеобщем практическом благе»[4] и верой «в уравнительный и гуманный прогресс»[5]. Наконец, непосредственно человечество и человек стали рассматриваться как главные источники и носители идеалов нравственной правды.
Как-то сам собой родился новый термин для определения произведений на библейские и евангельские сюжеты — теперь их стали называть историческими. Во второй половине XIX века в художественной критике даже возникло нечто вроде полемики по поводу, в частности, картины А. Иванова: рассматривать ее как первую в этом жанре или завершающую его. Мнения ученых, как водится, разошлись.
Исторический жанр как плод гуманистического сознания также начинает диктовать свои условия. Преисполненный правды факта в судьбе человечества, он требует жизненной достоверности в изложении самого факта как реальности, свершившейся в конкретных условиях и обстоятельствах. Это, естественно, повело к изменению художественного языка, равно как и образного строя в выражении самой исторической правды, которая, в свою очередь, нуждается в характерном, типическом, узнаваемом. А отсюда уже рукой подать до рождения собственно жанра как такового с его требованием правды жизни и возможностью, по словам Крамского, «высказаться личным наклонностям художника»[6]. Но уже очень скоро эта «возможность», как одно из условий творчества, была возведена Добролюбовым в его закон. «Правда жизни, — писал он в своей статье „Луч света в темном царстве“, — еще не есть достоинство произведения, а лишь его необходимое условие. О достоинствах произведения мы будем судить по широте мыслей автора».
Как мы знаем, имелась в виду «широта» критической мысли. Именно поэтому мы вправе предположить, что гуманистический взгляд на историю, а тем более на современность стал весьма существенной, а может быть, даже и главной причиной возникновения огромного художественного явления, которое мы традиционно называем реализмом с его отображением окружающего мира в бытовом, жизненно-конкретном, народно-историческом, культурологическом аспектах с четко выраженной авторской позицией.
Именно здесь проходит водораздел между светским искусством и религиозным, отличающимися друг от друга не темой, не эстетикой, даже не стилем, но прежде всего главным предметом изображения. Если в первом случае это идеи и чувства художника, что и обусловливает, как известно, всегда личностную природу самого светского искусства, то предметом изображения в религиозном искусстве являются церковные истины. Почему религиозное искусство всегда внеличностно, то есть иконописец — даже не посредник между зрителем и первообразом, а тем более не интерпретатор его. На VII Вселенском соборе (VIII в.) сама Церковь установила иконописание «как служащее нам в уверение истинного, а не воображаемого воплощения Бога Слова», как и было записано в определении этого Собора. И это также было хорошо известно до той поры, пока не явила себя новая мера всех вещей, породившая в искусстве так называемый исторический жанр.
«Кто теперь постится, собираясь писать библейскую картину? Да и зачем брать так высоко?»[7] — с грустью вопрошал один из критиков, возможно, и не подозревая, что прикоснулся к самой сердцевине проблемы. Ведь от того, как художник «берет» тему Христа в ту или иную эпоху, так сама эпоха и отвечает на вековечный вопрос Христов: «За кого меня почитают люди?»
В русском искусстве конца XIX века превалировал вполне определенный ответ на него: «За человека», поскольку именно эта мировоззренческая позиция стала преобладающей в общественном сознании. Свою лепту в ее идеологическое укрепление внес, между прочим, и И. А. Гончаров, задавшийся еще в начале 70-х годов вопросом: «Но было ли божественное в земном образе Христа, и кто видел это?» И тут же с неожиданной твердостью и категоричностью отвечает: «Не было, иначе бы мир знал о том». Поэтому в изображении сюжетов Святого Писания, настаивает Гончаров, художнику и предоставляется свобода «проникать творчеством в смысл событий и лиц и изображать их реально, то есть как оно было и происходило»[8].
Как воспреемник этой мысли, Поленов был одним из выразителей и проводников ее в изобразительном искусстве. Учитывая самую ближайшую перспективу его развития, именно она одержала верх над иным пониманием духовности, отображенной в творчестве Сурикова, Васнецова, Нестерова. Кстати сказать, именно Васнецов и Нестеров первыми возродили в своих религиозных произведениях ореол как символ божественности. Но это не было формальной данью древнерусской иконописной традиции, но, напротив, утверждением своей причастности к исконному пониманию на Руси духовного начала как первоосновы не только мира и человека, но и способа бытия в его мировоззренческой — сакральной — сути.
В отличие от них, сам Поленов никогда и не скрывал приверженности к гуманистическим умонастроениям своего времени. В одном из писем к жене, размышляя, в частности, о западниках, он писал: «В них что меня привлекает, это человеческая сторона, которая преобладает над национальной. В этом главная их сила и превосходство над славянофилами»[9].
Еще в самом начале его творческого пути, словно предвидя дальнейшее развитие прозападнических позиций в художественном сознании Поленова, В. В. Стасов как-то заметил ему: «Москва Вам ровно ни на что не нужна, точь-в-точь как и все вообще российское. У Вас склад души ничуть не русский… Мне кажется, что Вам бы всего лучше жить постоянно в Париже или Германии… Разве только с Вами совершится какой-то неожиданный переворот»[10]. И хотя не все так просто и однозначно в искусстве мастера, тем не менее переворота не произошло. И даже более того. Становится понятным, почему же такой живой отклик вызвало у Поленова знакомство с популярной и неоднократно издававшейся уже тогда книгой Ренана «Жизнь Иисуса», со страниц которой ее главный герой и предстает как простой человек. «13-е издание Ренана, — писал художник сестре в 1884 году, — столько проливает света и столько дает теплоты, что я давно не испытывал таких живых впечатлений от чтения книги»[11]. Эти «впечатления» и стали мощным импульсом к созданию цикла, названного автором «моим евангельским кругом»[12]. Все в этом «круге» с самого начала развивалось вполне органично, и выход на предложенное Поленовым видение Христа как «настоящего, живого человека… со всеми человеческими чертами»[13] был также вполне закономерен. Гуманистическое восприятие бога делало его образ, по признанию самого Поленова, «несравненно более» для него «привлекательным, трогательным и величественным»[14]. Вот та основа, на которой сформировалось художественное кредо мастера: «…чтобы и в искусстве дать этот живой образ, каким он был в действительности»[15].
Скажу сразу же, что именно таким и был воспринят современниками поленовский Христос — «не Богом, а человеком с огромной душой» (Вересаев)[16]. Правда, не все согласились с предложенной трактовкой, но их было меньшинство, и голос их остался неуслышанным.
Гуманистический взгляд на евангельские события, помноженный на очень рано проявившуюся, по признанию мастера, склонность к «пейзажному бытовому жанру»[17], продиктовали необходимость соблюдения географической точности в воспроизведении палестинских пейзажей, этнографической узнаваемости людей, населяющих эту землю: их национального типа, народного костюма, быта и пр. И наконец, подлинной архитектуры, «удостоверяющей» время пришествия Христа. Разумеется, добиться всего этого без поездки по святым местам было нельзя. И многие произведения цикла — это «эскизы, этюды, рисунки»[18], сделанные во время путешествия, осуществленного впервые в 1881–1882 годах.
Желание «изобразить предметы по возможности ближе к действительности» было порождено прежде всего стремлением сохранить верность «исторической правде», которая понималась художником как истина. А «истина, — писал он, — какая бы она ни была, для меня несравненно выше вымысла»[19].
Надо сказать, что художественная критика, не будучи, как мы знаем, единодушной в оценке программных установок цикла, тем не менее сразу же обратила внимание на достоверность, присущую картинам. Но в характере изложения самих евангельских событий она очень быстро распознала ренановское «Жизнеописание», и принципиальные расхождения начались именно здесь — в оценке первоисточника. И опять же вопрос упирался не в сам факт использования материала, полученного, так сказать, из вторых рук, а в его гуманистический аспект. Причем одни полагали, что это не должно оскорбить религиозного чувства, так как «…среди людей Христос был человеком»[20], как утверждал, например, В. Г. Короленко. Другие же, напротив, отвергали это положение, поскольку оно, по сути, не оставляло места «для выступления Христа в Его Божественном достоинстве»[21]. Так как картины цикла и в своей сюжетной последовательности, и тематически, и, что самое важное, идейно тесно связаны с книгой Ренана, то, став своеобразными иллюстрациями к ней, они также оказались лишенными этого «Божественного достоинства». В цикле, как подчеркивалось в статье, «не уделено ни одного полотна изображению какого-нибудь чуда, тогда как ими полна евангельская история: нет преображения, воскресения и вознесения»[22]. Не было фигуры Христа и в картине «Нагорная проповедь», хотя, по Евангелию, именно здесь состоялось откровение заповедей блаженства, раскрывающих подлинный смысл слов Иисуса: «Не нарушить закон пришел я, но исполнить» (Мф. 5, 17). И конечно, сразу же было отмечено жанровое решение всех, как тогда писали, «людских сцен». Образцом здесь может служить полотно «Христос среди учителей», напоминающее своим композиционным и художественным построением скорее занятия в древнеиудейской школе, нежели таинство обретения Иисусом Христом Дома Отца Своего.
В центре композиции — маленький Иисус в окружении беседующих с ним старцев, чем, собственно, и исчерпывается содержание поленовской картины. Но в Евангелии этот эпизод имеет совершенно иную окраску. Действительно, во время одного из праздников родители, потерявшие своего двенадцатилетнего сына, только «через три дня нашли Его в Храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их» (Лк. 2, 46). Но это исходное положение сюжета, основная суть которого заключена, во-первых, в нарастающем удивлении старцев от «разума и ответов Его» (Лк. 2, 47), а во-вторых, в словах Христа, сказанных своим родителям, обеспокоенным Его исчезновением: «Зачем было вам искать Меня? Или вы не знаете, что Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему?» (Лк. 2, 49). Эта главенствующая часть сюжета, в котором изначально заложена его перспектива, выпала из образного решения картины, лишенного своего развития. В результате от всего евангельского текста осталась лишь его событийность, рассказ, описательная форма которого всегда предполагает, кроме всего прочего, внимание к деталям, подробностям. Поэтому Поленова здесь одинаково интересуют и действие, и одежда, и архитектурное обрамление сцены, и тончайшая игра свето-теневых нюансов, и даже тапочки, тщательно прописанные на первом плане. Но этот обычай, принятый у иудеев, снимать обувь при входе в храм, утратил у Поленова свой религиозный смысл — оставлять за пределами храма свои грехи. И потому тапочки, вполне органичные атмосфере пейзажно-бытового жанра, воспринимаются всего лишь как любопытная этнографическая характеристика, точно так же как и археологическая реконструкция храмового дворика, экзотические одеяния священнослужителей, их типы и так далее. Композиция оказалась нацелена на воспроизведение исторической картины времени, из которой полностью ушли религиозная атмосфера действия, а главное — его сакральный смысл. Но когда произведение на евангельскую тему лишается этого смысла и воспринимается лишь как исторический факт, то в этом случае оно лишается и своей подлинной правды. Гуманистическое прочтение евангельского текста не только не позволяет вскрыть эту правду, но закрывает даже малейший доступ к ней. И тогда начинаются художественные фантазии, иллюзии и домыслы. Подлинность их вполне соответствует сокам, ее питавшим, еще раз подтверждая истину, что в религиозной картине на почве пейзажно-бытового жанра не может возникнуть ничего, кроме жанровой сцены в пленэре, что и было отмечено рецензентами тогда же.
Но далее констатации жанрового характера картин цикла, в одном случае приветствуемого как «замечательный успех художественного реализма»[23], а в другом — вызывающего протест против «перевеса мелочных подробностей, мелкого реализма над исторической правдой»[24], критика не шла. Она не искала причин эстетического обоснования использования здесь жанра как формы и способа изложения евангельских событий. Для каждой из сторон приятие или неприятие этого обстоятельства было само собой разумеющимся, обусловленным тем или иным мировоззрением, а потому и не требовало особых доказательств. Оценивался сам факт: гуманистическая трактовка образа Христа со всеми вытекающими отсюда позиционными доводами: или в защиту, или в протест.
Для самого же Поленова выдержанность всего цикла в пейзажно-бытовом жанре имела немаловажное, можно сказать, даже принципиальное значение, став воплощением идей и замыслов его кумира Александра Иванова.
Еще в процессе работы над «Явлением Христа народу» Ивановым овладела мысль о поездке в Палестину, где он намеревался пройти по святым местам и запечатлеть их на своих полотнах. Но разрешения на поездку Иванов не получил, и мечта художника так и осталась неосуществленной.
И вот теперь, спустя тридцать с лишним лет, Поленов, находившийся еще со студенческой скамьи под сильным впечатлением от ивановского «Мессии» — картины, существенно скорректировавшей всю его дальнейшую судьбу, — попытался реализовать тогдашний замысел Иванова.
Так родился главный труд Поленова — его евангельский цикл «Из жизни Христа». Парадоксально, но факт: в истории искусства это, может быть, редчайший случай, когда название художественного цикла и его содержание так мало соответствуют друг другу, поскольку собственно событийный ряд оказался здесь не сквозным, а скорее побочным. На первое место вышли палестинские пейзажи. Но при этом, увлекшись достоверностью, красочным многоцветием природы, пленэрностью в передаче свето-воздушной среды, сотканной из ярких солнечных лучей и богатого разнообразия теней: от контрастирующей резкости до живописной легкости и прозрачности полутонов, художник не сумел погрузить их в атмосферу святости разворачивавшихся здесь действий. Потому подлинная натура, хотя и мастерски запечатленная на поленовских холстах, так и осталась в них видовыми картинами, в которых было больше географической точности, высочайшего живописного мастерства, вдохновенного любования и восхищения экзотической красотой, нежели духовного смысла. А в результате даже такая важнейшая евангельская тема, как Крещение («Крестились от него»), благодаря ее интерпретации в стилистике жизненной правды оказалась низведенной до житейски-прозаической сцены купания. И не более.
Таким образом, святые места у Поленова, обретя свою жизненную правдивость, реальность, утратили присутствие духа Христа, а вместе с ним и свою святость.
Да, существует непреложное правило: судить художника только по законам, им самим над собою признанным. И никто не собирается его оспаривать. Мы хотим всего лишь поставить вопрос о степени адекватности художественного воплощения религиозных идей.
Картина Поленова «Христос и грешница» (1887, ГРМ), с которой началось движение художника по «евангельскому кругу», программно обозначила направление этого движения, кульминацией которого стало созданное год спустя полотно «На Тивериадском озере» (1888, ГТГ). Поэтому и речь у нас пойдет именно о них.
Прежде всего необходимо обратить внимание на ту композиционную прямую, что связывает сидящего Христа и группу из двух фигур на вершине лестницы у самого входа в храм. В свое время было высказано, и достаточно убедительно, предположение, что один из них — старец, законоучитель Гамалиил, дед которого, первосвященник Гилел, был, как утверждают, учителем Христа. Сам Поленов писал: «В учении Гилела, в эпоху, которую мы привыкли считать еще не развитой ни в научном, ни в нравственном отношениях, мы не можем, однако, не видеть уже некоторой близости с учением Христа»[25]. Такое своего рода «предтечное» понимание учения Гилела, наследованное и развитое его внуком Гамалиилом, стало художественным оправданием ритмического стержня, связующего фигуры законоучителя и Христа. Идущие в параллель выступы, дверные проемы, колонны храма, а также фигуры людей, стоявших вдоль лестницы, и вытянутые стволы деревьев слева и справа в совокупности своей расширили пластический ареал этой вертикали. И таким образом удерживали зафиксированный смысловой акцент, когда Гамалиил, оставаясь наверху, предстоял миру горнему, а Христос, как «человек среди людей», — миру дольнему. Но это означает не что иное, как весьма существенное смещение религиозных акцентов. В результате предложенного художником решения возникает нарочитый образ, в котором Ветхий Завет оказывается над Новым. А это само по себе решительно противоречит церковному ортодоксу, согласно которому Откровение Слова не превалирует над Откровением Образа, а лишь предшествует ему.
Нечеткость, чтобы не сказать — ошибочность мировоззренческой позиции Поленова наложилась на его логику дальнейшего композиционного построения картины, в которой Христос с загорелым лицом сидит прямо на земле, и именно здесь, на земле, у подножия храма в атмосфере пейзажно-бытового жанра разворачивается основное действие. Нет, не случайно художественное чутье Поленова подсказало ему формат картины, вытянутый по горизонтали, ставшей пластической доминантой всей композиции. Художник необычайно сосредоточен на передаче жизненности происходящего, внимательно разрабатывает целый спектр материальной фактуры: от невесомой травинки до мощных каменных объемов храма; разворачивает широкую этнографическую панораму древнеиудейского костюма, дифференцируя его в зависимости от социальной, кастовой принадлежности того или иного героя; дает глубочайшую разработку психологических состояний: от тихой задумчивости, отрешенности до любопытства, страха и неимоверной злобы, граничащей с аффектом; наконец, тщательно прописывает раскинувшийся вокруг храма пейзаж, где растительность пробивается сквозь каменистую почву. Насыщенная прозрачными тенями, свето-воздушная среда картины, кажется, дышит южным зноем, опалившим лица людей, находящих спасение от его горячего дыхания под кроной раскидистого дерева с обильной листвой.
Реалистическая трактовка происходящего наполняет образный строй картины теми жизненными соками, что придают ей ощущение подлинности, правдивости. И в этом смысле Поленов действительно сохраняет верность своему первоисточнику. И все же…
Помещая практически в центр композиции фарисея и рыжебородого саддукея, за которыми — разъяренная толпа, приведшая грешницу, художник тем самым акцентирует самое начало евангельского действа, заключенного в вопросе: «Учитель!.. Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» (Ин. 8, 5). Как известно, особенность евангельского языка составляет его иносказательность, в которой за внешней событийностью сокрыта иная, божественная сущность. Представленная в простых, жизненно-подобных и убедительных образах, она уже поэтому, воспринятая через них, кажется очень простой и вседоступной. В то время как на самом деле весь евангельский текст представляет собой новозаветное знание, изложенное на языке притч и символов, ключом к раскрытию которых владеет лишь ортодоксальное богословие. Но именно эту ортодоксальность и отвергал Поленов, воспринимая текст в чистом виде, в его событийности, давая при этом свою интерпретацию, исходя не только из собственного понимания сюжета, но прежде всего из своих индивидуальных представлений вообще о вере, религии и Боге.
Между тем подлинный смысл «моисеевых камней» оказывается не в том, что ими можно забить насмерть. В переводе «камень» значит «мудрость». Мудрость воплощена в законе. Закон есть средство ограничения, но и соблюдения общепринятых правил и норм. «Моисеевы заповеди» как раз и формулировали эти нормы, соблюдая которые общество могло оградить и защитить себя от анархии и разрушения, что и определяло, в свою очередь, дисциплину общества как морально-этический принцип его жизнеустроения. Вот что защищал фарисей, «искушая» Христа.
Но тогда мы вправе задаться еще одним вопросом: почему прелюбодеяние, то есть преступление, представлено в Евангелии и, соответственно, на поленовском полотне в образе женщины? Не вдаваясь в богословские рассуждения, заметим, что начиная с языческих времен в мистическом сознании древних Земля — всегда жена, а Небо — всегда муж. Такое понимание взаимодействия двух миров как двух начал жизни осталось подосновой и христианства, в котором также именно с женщиной всегда ассоциируется образ дольнего мира, его земного начала в человеке и тесно связанного с этим представления о материи, плоти, грехе, наконец, с осознания которого и начинается христианская нравственность.
И если можно говорить о драматургии происходящего, то она как раз и являет собой встречу Христа с греховностью земного мира, воплощенной в собирательном образе грешницы, у которой даже имени нет. А Евангелие на имена не скупится. Поэтому драматизм евангельского события раскрывается не в фарисейском вопросе, а в том, которым Христос парировал выпад против него: «Кто из вас без греха?» (Ин. 8, 7). Но в картине нет этого встречного вопроса, равно как и нет ответа Христа фарисею, хотя и адресованного не прямо ему, а к грешнице. В словах Иисуса: «Иди и впредь не греши» (Ин. 8, 11) — раскрывается суть новой морали, в центре которой — любовь, и не только к одним ближним, но ко всем оступившимся и падшим. Эту надежду и веру в духовное исцеление всех и каждого как новый, нравственный принцип человеческого общежития и принес с собой Христос. Но ничего этого у Поленова нет. Главным так и остается вопрос фарисея, поскольку именно этот, начальный момент события был выбран сюжетом картины. Реакция Христа и сидящих вокруг него учеников — спокойная, хотя это то самое спокойствие, что дается с высоты открытой истины мира. Нет осуждения на их лицах, а есть осознание суетности мира. Но это не ответ, этого слишком мало, чтобы противостоять греху, бороться с ним. Но что же может предложить Христос-человек, скорее напоминающий христианского проповедника, чем Бога? Только дорогу к храму, которая, как это хорошо видно на холсте, открыта всем и каждому. Но разве любая другая религия не проповедует то же самое, не стоит на том же? Только у каждой религии — своя дорога к храму, а значит, и свой путь спасения.
И это тоже правда, но оказавшаяся в данном случае чем-то вроде абстрактного гуманизма, так сказать, мыслью вообще. В связи с этим невольно вспоминается высказывание Поленова об истине, которая ему была дороже вымысла. Но гуманистическое и божественное толкования истины разнятся между собой точно так же, как понятия «историческая правда» и «правда божественная». И весь вопрос в том, за какой правдой идет художник.
Скажем, в отличие от Поленова, истина для Александра Иванова заключалась в том, что Христос есть «свет миру», поскольку им прозревают, просвещаются людские души. Отсюда это стремление автора «Мессии» наполнить, насытить окружающий мир светом. Другое дело, что художнику не удалось добиться его неизреченного сияния, поскольку источником света стал не его божественный носитель, а горячее южное солнце, озаряющее одинаково и палестинский пейзаж, и собравшихся здесь людей, и самого Христа.
Мы не случайно вспомнили шедевр Иванова. Под его непосредственным впечатлением у молодого Поленова, решившего идти по стопам своего любимого художника, и созрела еще в молодости мысль, которую он осуществил спустя много лет в своей «Грешнице». Идя путем своего кумира, Поленов споткнулся на том же самом месте. И в его картине точно так же религиозное уступило место реалиям естественной природы и жизненной правде.
Но в отличие от Поленова, у Иванова все: и композиция, и психологическая атмосфера, наконец, сами идеи, которыми так насыщена его картина, находятся в постоянном развитии: от простого к сложному, от времени к вечности, от покаяния к воскресению. У Поленова этой внутренней динамики образа нет. Он всегда останавливается на начальной стадии евангельского сюжета, даже не пытаясь продвинуться дальше, хотя бы по событийной канве и через нее проникнуть в глубины евангельского текста. Его все время что-то останавливает. Лишенные движения, его образы отличаются внутренней статичностью. А в результате в них возникают существенные пустоты, которые и заполняет собой историзм. Именно он и продиктовал столь любимую Поленовым художественную форму для его выражения — пейзажно-бытовой жанр, в котором широкий простор для земных реалий, но нет места сакральному. Поэтому не случайно в «евангельском круге» Поленова, пронизанном гуманистической интерпретацией идеи, отчетливо слышна земная поступь Христа.
Наиболее сконцентрированно мысль эта оказалась выраженной в картине «На Тивериадском (Генисаретском) озере» (1888, ГТГ).
Холмистый берег дальнего плана не замыкает композицию наглухо, как, скажем, в одном из первоначальных вариантов, а постепенно, расходясь от центра влево и вправо, пластически замирает в голубом мареве, высвобождая зеленые долы и тем самым расширяя пространственную протяженность окружающего мира.
В построении пейзажа здесь явно просматривается пластическая аналогия с «Христом в пустыне». С той лишь разницей, что у Крамского нет реальной конкретики, а есть реальность связующего оба мира, которые, в свою очередь, представлены в образах бесконечности и необъятности. У Поленова же при всей обобщенности картины, торжественности взятой им ноты повествования все же нет этого образа предстояния Земли и Неба, настолько велика здесь степень географической привязанности к месту события.
Выявляя первозданную красоту мира, художник вместе с тем стремится передать материальную фактуру земли в самых разных ее свойствах и качествах. Тщательно выписанные валуны, булыжники и даже мелкая галька, обкатанная водой, словно гипнотически приковывают к себе наше внимание, контрастируя с прозрачной, податливой водой, сверкающей отраженным светом радужного сияния южного полдня. Идущая по узкой тропинке фигура Христа естественно и органично вписывается в этот материальный мир своей телесностью, этнографизмом. Здесь нет ивановской надмирности. Напротив, Христос Поленова — земной, живущий на земле и осязаемо ступающий по ней, а потому и не свободный от проявления ее физического воздействия на него. Отсюда потемневшие от загара лицо и руки, некоторая усталость человека, идущего под палящим солнцем, опираясь на посох. Но благодаря тому что пластическое действо картины организовано по правилам неукоснительного следования правде жизни, где главным является требование достоверного, жизненно-наблюденного — реалистического; именно поэтому такая деталь, как посох, воспринимается всего лишь как весьма характерный атрибут всех странствующих, помогая путнику твердо стоять на земле. И не более.
Между тем именно в нем и заключена вся суть евангельской мысли: «И заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха: ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе…» (Мк. 6, 8). Так наставлял своих учеников Христос.
Как мы отмечали выше, иносказательная природа евангельского языка уже предполагает восприятие текста не в буквальном, а в переносном смысле, когда не только факт, но даже отдельная деталь предстает в нем многозначным образом. Посох в данном случае и возникает сакральным образом веры как опоры человека на жизненном пути.
И все было бы логично в художественном построении образа картины, если бы на ней был так изображен кто-либо из апостолов, но только не Христос, Который в этой опоре не нуждается. Ведь Он Сам и есть воплощенное Слово, Истина и в этом смысле Он — свет и опора миру. Он «вполне человек — по плоти человеческой, Он — не привидение, — писал автор „Слова о законе и благодати“. — Но вполне Бог — по-божественному, это не просто человек, явивший на земле божеское и человеческое»[26]. Эта двуединая ипостась Христа в поленовском герое между тем никак не выражена. И даже более того, человеческое начало в нем оказалось всеподавляющим.
Христос Поленова не отторгает, а тем более не противостоит материальной основе мира, но является как бы естественной частью ее и в этом смысле он принадлежит Земле, а не Небу. И потому соизмерим с человеком и сам есть человек, а не вочеловечившийся Бог.
Перед нами скорее странствующий мыслитель, погруженный в раздумья, чья философская глубина может быть соизмерима с масштабом сущего мира, который нельзя охватить взглядом, но можно объять мыслью. Именно она в пластической драматургии картины и возникает главной опорой поленовскому Христу.
Поэтому мы склонны согласиться с теми, кто считает «Тивериадское озеро» ведущим произведением цикла, поскольку именно в нем наиболее полно раскрылось гуманистическое видение образа Христа, величие которого Поленов вслед за Ивановым и Крамским измеряет масштабом всепроникающей, всеохватной, но все же земной мысли, а не божественной премудрости.
Еще со времен Иванова сама божественная премудрость оказалась препарирована гуманистическим рационализмом, и понятие Высшего Разума оказалось подменено Разумом Абсолютным.
Будучи близким другом Виктора Васнецова, Поленов тем не менее по своим умонастроениям был все же ближе именно этой линии развития религиозной живописи, продлившейся и в творчестве И. Н. Крамского. Потому возникает и невольная аналогия с его «Христом в пустыне». Герой Крамского, глубоко погруженный в себя, весь охвачен мучительными вопросами, стремясь постигнуть сложности и противоречия жизни. И следовательно, для художника главной, изначальной силой Христа оказывается мысль.
Картины Крамского и Поленова концептуально необычайно близки друг другу. При этом Крамской не скрывал своей личной сопричастности образу Христа. «Итак, это не Христос, — писал он, — То есть я не знаю, кто это. Это есть выражение моих личных мыслей»[27]. Иными словами, Крамской, очеловечив Христа, наделил его своими «личными мыслями», что означало подмену личности и совершенства Бога личностью самого художника со всеми его достоинствами, страстями и заблуждениями. тем самым, продолжая линию Иванова, Крамской закрепил в искусстве право на создание каждым художником своего образа Христа, а значит, по своему видению и вымыслу. Между тем апостольская заповедь утверждает прямо противоположное: «Итак мы… не должны думать, что Божество подобно… камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого» (Деян. 17, 29). Но русская религиозная живопись отошла от этой заповеди, лежащей в основе иконописной традиции с ее однотипностью Божьего лика, независимо от века, автора и эстетической стилистики.
Поленовский Христос — не только не исключение из общего художественного ряда своего времени, но его естественная составляющая. Правда, в отличие от своих предшественников, автор «Тивериадского озера» утверждает идею гуманистического Христа не только как свою, сугубо личную, но уже как отстоявшуюся и даже господствующую в расцерковленном сознании. В историческом времени эта ситуация осложнялась, нарастая словно снежный ком: от критики — к нигилизму, от него — к отрицанию жизни и, как следствие, — нежеланию жить. На рубеже веков эпидемия самоубийств начала принимать угрожающий характер, особенно среди молодежи. А это уже время Поленова. В письме к В. М. Васнецову художник пишет: «Мне кажется, что искусство должно давать счастье и радость, иначе оно ничего не стоит. В жизни так много горя, так много пошлости и грязи, что если искусство тебя будет сплошь обдавать ужасами и злодействами, то уже жить станет слишком тяжело»[28]. Таким образом, Поленов разделял родившуюся в те же самые 80-е годы знаменитую идею отрадного в искусстве, выдвигавшуюся тогда как средство противостояния «ужасам и злодействам». Потому-то Христос и в «Грешнице», и в «Тивериадском озере» лишен активного, действенного начала, что и привнесло в картины настроение пассивной созерцательности. Поленова не подвела художественная интуиция, возобладавшая над его идеями о «счастии и радости». И в значительной мере благодаря этому неосознанному, необъяснимому предощущению картины оказались преисполненными драматического провидения. Ведь в своей абсолютизации человека гуманизм, все время спотыкаясь о действительность, оказывается каждый раз перед фактом крушения своих умозрительных идеалов. Как не вспомнить здесь слова того самого Гамалиила, законоучителя: «Если это предприятие и это дело — от человеков, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его» (Деян. 5, 38–39).
Между тем гуманистическое сознание отрекается от «всей этой богословии как совершенно лишней», ибо религия перестала быть, по мнению художника, «действительно живой силой, когда она руководила человеком, была его поддержкой» [29]. Но, как известно, свято место пусто не бывает, и функции этой «поддержки» начинает принимать на себя эстетика, понимаемая теперь уже как основа этики. Ведь «только тогда зло побеждено, — утверждал один из современников В. Д. Поленова, — когда человек чувствует его безобразным»[30]. Однако если антитезой безобразного является искусство, то именно оно по гуманистической логике становится залогом этического благополучия общества. Исходя из этой логики, Поленов и пришел к тому же самому выводу: «Ничто так не смягчает нравы, как оно (искусство. — М. П.), ничто так не отвлекает людей… как причастие к искусству»[31].
Необходимо подчеркнуть, что эта точка зрения была преобладающей в художественной ситуации начала века, несмотря на весь ее стилистический плюрализм. И высказана она была художником в самый разгар «духовного и политического нигилизма», историческая перспектива которого хорошо известна. В то же самое время, охарактеризованное тем же Поленовым как «время лжи, притворства и наглого цинизма»[32], Васнецов, например, приходит к совершенно иному выводу: красота, явленная вне духовного наполнения, а только в эстетическом существе своем, не спасает.
Но в обществе с прогрессировавшей духовной глухотой эта мысль художника так и осталась гласом вопиющего в пустыне. Между тем логика васнецовского рассуждения невольно приводит нас к выводу: опустошенная бездуховностью красота хотя и может поселить в душе некоторое умиротворение и даже вызвать настроение созерцательности, но она все же «не смягчает нравы», поскольку не несет в себе никаких идей и идеалов, за которыми духовное преображение человека. Бездуховная красота сама может быть низведена до уровня умозрительных ценностей и подпасть под всевластие прагматических идей.
_____________
Примечания
[1]. ОР ГТГ, ф. 54, ех. 8.
[2]. Там же.
[3]. Там же, ех. 19.
[4]. Леонтьев К. Записки отшельника. М., 1992. С. 145.
[5]. там же. С. 151.
[6]. Крамской И. Н. Его жизнь, переписка, художественно-критические статьи. СПБ., 1888. С. 584.
[7]. Библейские мотивы в русской школе. Русский вестник. 1887. № 1. С. 395.
[8]. Сахарова Е. В. В. Д. Поленов. Е. Д. Поленова. Хроника семьи художников. М., 1964. С. 389 (В дальнейшем: Сахарова Е. В. Хроника…).
[9]. И. А. Гончаров-критик. М., 1981. с. 107.
[10]. ОР ГТГ, ф. 54, ех. 5561.
[11]. Сахарова Е. В. Хроника… с. 336.
[12]. Там же. с. 661.
[13]. Там же. с. 619.
[14]. Там же.
[15]. Там же.
[16]. Там же. с. 755.
[17]. Там же. с. 207.
[18]. ОР ГТГ, ф. 54, ех. 28.
[19]. Сахарова Е. В. Хроника… с. 619.
[20]. Короленко В. Г. Собр. соч. М., 1955. т. VIII. С. 294.
[21]. Ремезов А. Жизнь Христа в трактации художника. К выставке картин академика Поленова «Из жизни Христа». Сергиев Посад, 1915. с. 23.
[22]. Там же.
[23]. Короленко В. Г. Указ. соч. С. 294.
[24]. Кристи И. И. Историческая правда в искусстве. По поводу картины Поленова. М., 1887. с. 10.
[25]. ОР ГТГ, ф. 54, ех. 19.
[26]. Митрополит Иларион Киевский. Слово о законе и благодати. В сб.: Русская идея. М., 1992. с. 24.
[27]. Крамской И. Н. Письма. М., 1965. Т. 1. с. 447.
[28]. Сахарова Е. В. Хроника… с. 393.
[29]. ОР ГТГ, ф. 54, ех. 65.
[30]. Сахарова Е. В. Хроника… с. 693.
[31]. Там же. с. 675.
[32]. Там же. с. 620.
Как-то сам собой родился новый термин для определения произведений на библейские и евангельские сюжеты — теперь их стали называть историческими. Во второй половине XIX века в художественной критике даже возникло нечто вроде полемики по поводу, в частности, картины А. Иванова: рассматривать ее как первую в этом жанре или завершающую его. Мнения ученых, как водится, разошлись.
Исторический жанр как плод гуманистического сознания также начинает диктовать свои условия. Преисполненный правды факта в судьбе человечества, он требует жизненной достоверности в изложении самого факта как реальности, свершившейся в конкретных условиях и обстоятельствах. Это, естественно, повело к изменению художественного языка, равно как и образного строя в выражении самой исторической правды, которая, в свою очередь, нуждается в характерном, типическом, узнаваемом. А отсюда уже рукой подать до рождения собственно жанра как такового с его требованием правды жизни и возможностью, по словам Крамского, «высказаться личным наклонностям художника»[6]. Но уже очень скоро эта «возможность», как одно из условий творчества, была возведена Добролюбовым в его закон. «Правда жизни, — писал он в своей статье „Луч света в темном царстве“, — еще не есть достоинство произведения, а лишь его необходимое условие. О достоинствах произведения мы будем судить по широте мыслей автора».
Как мы знаем, имелась в виду «широта» критической мысли. Именно поэтому мы вправе предположить, что гуманистический взгляд на историю, а тем более на современность стал весьма существенной, а может быть, даже и главной причиной возникновения огромного художественного явления, которое мы традиционно называем реализмом с его отображением окружающего мира в бытовом, жизненно-конкретном, народно-историческом, культурологическом аспектах с четко выраженной авторской позицией.
Именно здесь проходит водораздел между светским искусством и религиозным, отличающимися друг от друга не темой, не эстетикой, даже не стилем, но прежде всего главным предметом изображения. Если в первом случае это идеи и чувства художника, что и обусловливает, как известно, всегда личностную природу самого светского искусства, то предметом изображения в религиозном искусстве являются церковные истины. Почему религиозное искусство всегда внеличностно, то есть иконописец — даже не посредник между зрителем и первообразом, а тем более не интерпретатор его. На VII Вселенском соборе (VIII в.) сама Церковь установила иконописание «как служащее нам в уверение истинного, а не воображаемого воплощения Бога Слова», как и было записано в определении этого Собора. И это также было хорошо известно до той поры, пока не явила себя новая мера всех вещей, породившая в искусстве так называемый исторический жанр.
«Кто теперь постится, собираясь писать библейскую картину? Да и зачем брать так высоко?»[7] — с грустью вопрошал один из критиков, возможно, и не подозревая, что прикоснулся к самой сердцевине проблемы. Ведь от того, как художник «берет» тему Христа в ту или иную эпоху, так сама эпоха и отвечает на вековечный вопрос Христов: «За кого меня почитают люди?»
В русском искусстве конца XIX века превалировал вполне определенный ответ на него: «За человека», поскольку именно эта мировоззренческая позиция стала преобладающей в общественном сознании. Свою лепту в ее идеологическое укрепление внес, между прочим, и И. А. Гончаров, задавшийся еще в начале 70-х годов вопросом: «Но было ли божественное в земном образе Христа, и кто видел это?» И тут же с неожиданной твердостью и категоричностью отвечает: «Не было, иначе бы мир знал о том». Поэтому в изображении сюжетов Святого Писания, настаивает Гончаров, художнику и предоставляется свобода «проникать творчеством в смысл событий и лиц и изображать их реально, то есть как оно было и происходило»[8].
Как воспреемник этой мысли, Поленов был одним из выразителей и проводников ее в изобразительном искусстве. Учитывая самую ближайшую перспективу его развития, именно она одержала верх над иным пониманием духовности, отображенной в творчестве Сурикова, Васнецова, Нестерова. Кстати сказать, именно Васнецов и Нестеров первыми возродили в своих религиозных произведениях ореол как символ божественности. Но это не было формальной данью древнерусской иконописной традиции, но, напротив, утверждением своей причастности к исконному пониманию на Руси духовного начала как первоосновы не только мира и человека, но и способа бытия в его мировоззренческой — сакральной — сути.
В отличие от них, сам Поленов никогда и не скрывал приверженности к гуманистическим умонастроениям своего времени. В одном из писем к жене, размышляя, в частности, о западниках, он писал: «В них что меня привлекает, это человеческая сторона, которая преобладает над национальной. В этом главная их сила и превосходство над славянофилами»[9].
Еще в самом начале его творческого пути, словно предвидя дальнейшее развитие прозападнических позиций в художественном сознании Поленова, В. В. Стасов как-то заметил ему: «Москва Вам ровно ни на что не нужна, точь-в-точь как и все вообще российское. У Вас склад души ничуть не русский… Мне кажется, что Вам бы всего лучше жить постоянно в Париже или Германии… Разве только с Вами совершится какой-то неожиданный переворот»[10]. И хотя не все так просто и однозначно в искусстве мастера, тем не менее переворота не произошло. И даже более того. Становится понятным, почему же такой живой отклик вызвало у Поленова знакомство с популярной и неоднократно издававшейся уже тогда книгой Ренана «Жизнь Иисуса», со страниц которой ее главный герой и предстает как простой человек. «13-е издание Ренана, — писал художник сестре в 1884 году, — столько проливает света и столько дает теплоты, что я давно не испытывал таких живых впечатлений от чтения книги»[11]. Эти «впечатления» и стали мощным импульсом к созданию цикла, названного автором «моим евангельским кругом»[12]. Все в этом «круге» с самого начала развивалось вполне органично, и выход на предложенное Поленовым видение Христа как «настоящего, живого человека… со всеми человеческими чертами»[13] был также вполне закономерен. Гуманистическое восприятие бога делало его образ, по признанию самого Поленова, «несравненно более» для него «привлекательным, трогательным и величественным»[14]. Вот та основа, на которой сформировалось художественное кредо мастера: «…чтобы и в искусстве дать этот живой образ, каким он был в действительности»[15].
Скажу сразу же, что именно таким и был воспринят современниками поленовский Христос — «не Богом, а человеком с огромной душой» (Вересаев)[16]. Правда, не все согласились с предложенной трактовкой, но их было меньшинство, и голос их остался неуслышанным.
Гуманистический взгляд на евангельские события, помноженный на очень рано проявившуюся, по признанию мастера, склонность к «пейзажному бытовому жанру»[17], продиктовали необходимость соблюдения географической точности в воспроизведении палестинских пейзажей, этнографической узнаваемости людей, населяющих эту землю: их национального типа, народного костюма, быта и пр. И наконец, подлинной архитектуры, «удостоверяющей» время пришествия Христа. Разумеется, добиться всего этого без поездки по святым местам было нельзя. И многие произведения цикла — это «эскизы, этюды, рисунки»[18], сделанные во время путешествия, осуществленного впервые в 1881–1882 годах.
Желание «изобразить предметы по возможности ближе к действительности» было порождено прежде всего стремлением сохранить верность «исторической правде», которая понималась художником как истина. А «истина, — писал он, — какая бы она ни была, для меня несравненно выше вымысла»[19].
Надо сказать, что художественная критика, не будучи, как мы знаем, единодушной в оценке программных установок цикла, тем не менее сразу же обратила внимание на достоверность, присущую картинам. Но в характере изложения самих евангельских событий она очень быстро распознала ренановское «Жизнеописание», и принципиальные расхождения начались именно здесь — в оценке первоисточника. И опять же вопрос упирался не в сам факт использования материала, полученного, так сказать, из вторых рук, а в его гуманистический аспект. Причем одни полагали, что это не должно оскорбить религиозного чувства, так как «…среди людей Христос был человеком»[20], как утверждал, например, В. Г. Короленко. Другие же, напротив, отвергали это положение, поскольку оно, по сути, не оставляло места «для выступления Христа в Его Божественном достоинстве»[21]. Так как картины цикла и в своей сюжетной последовательности, и тематически, и, что самое важное, идейно тесно связаны с книгой Ренана, то, став своеобразными иллюстрациями к ней, они также оказались лишенными этого «Божественного достоинства». В цикле, как подчеркивалось в статье, «не уделено ни одного полотна изображению какого-нибудь чуда, тогда как ими полна евангельская история: нет преображения, воскресения и вознесения»[22]. Не было фигуры Христа и в картине «Нагорная проповедь», хотя, по Евангелию, именно здесь состоялось откровение заповедей блаженства, раскрывающих подлинный смысл слов Иисуса: «Не нарушить закон пришел я, но исполнить» (Мф. 5, 17). И конечно, сразу же было отмечено жанровое решение всех, как тогда писали, «людских сцен». Образцом здесь может служить полотно «Христос среди учителей», напоминающее своим композиционным и художественным построением скорее занятия в древнеиудейской школе, нежели таинство обретения Иисусом Христом Дома Отца Своего.
В центре композиции — маленький Иисус в окружении беседующих с ним старцев, чем, собственно, и исчерпывается содержание поленовской картины. Но в Евангелии этот эпизод имеет совершенно иную окраску. Действительно, во время одного из праздников родители, потерявшие своего двенадцатилетнего сына, только «через три дня нашли Его в Храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их» (Лк. 2, 46). Но это исходное положение сюжета, основная суть которого заключена, во-первых, в нарастающем удивлении старцев от «разума и ответов Его» (Лк. 2, 47), а во-вторых, в словах Христа, сказанных своим родителям, обеспокоенным Его исчезновением: «Зачем было вам искать Меня? Или вы не знаете, что Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему?» (Лк. 2, 49). Эта главенствующая часть сюжета, в котором изначально заложена его перспектива, выпала из образного решения картины, лишенного своего развития. В результате от всего евангельского текста осталась лишь его событийность, рассказ, описательная форма которого всегда предполагает, кроме всего прочего, внимание к деталям, подробностям. Поэтому Поленова здесь одинаково интересуют и действие, и одежда, и архитектурное обрамление сцены, и тончайшая игра свето-теневых нюансов, и даже тапочки, тщательно прописанные на первом плане. Но этот обычай, принятый у иудеев, снимать обувь при входе в храм, утратил у Поленова свой религиозный смысл — оставлять за пределами храма свои грехи. И потому тапочки, вполне органичные атмосфере пейзажно-бытового жанра, воспринимаются всего лишь как любопытная этнографическая характеристика, точно так же как и археологическая реконструкция храмового дворика, экзотические одеяния священнослужителей, их типы и так далее. Композиция оказалась нацелена на воспроизведение исторической картины времени, из которой полностью ушли религиозная атмосфера действия, а главное — его сакральный смысл. Но когда произведение на евангельскую тему лишается этого смысла и воспринимается лишь как исторический факт, то в этом случае оно лишается и своей подлинной правды. Гуманистическое прочтение евангельского текста не только не позволяет вскрыть эту правду, но закрывает даже малейший доступ к ней. И тогда начинаются художественные фантазии, иллюзии и домыслы. Подлинность их вполне соответствует сокам, ее питавшим, еще раз подтверждая истину, что в религиозной картине на почве пейзажно-бытового жанра не может возникнуть ничего, кроме жанровой сцены в пленэре, что и было отмечено рецензентами тогда же.
Но далее констатации жанрового характера картин цикла, в одном случае приветствуемого как «замечательный успех художественного реализма»[23], а в другом — вызывающего протест против «перевеса мелочных подробностей, мелкого реализма над исторической правдой»[24], критика не шла. Она не искала причин эстетического обоснования использования здесь жанра как формы и способа изложения евангельских событий. Для каждой из сторон приятие или неприятие этого обстоятельства было само собой разумеющимся, обусловленным тем или иным мировоззрением, а потому и не требовало особых доказательств. Оценивался сам факт: гуманистическая трактовка образа Христа со всеми вытекающими отсюда позиционными доводами: или в защиту, или в протест.
Для самого же Поленова выдержанность всего цикла в пейзажно-бытовом жанре имела немаловажное, можно сказать, даже принципиальное значение, став воплощением идей и замыслов его кумира Александра Иванова.
Еще в процессе работы над «Явлением Христа народу» Ивановым овладела мысль о поездке в Палестину, где он намеревался пройти по святым местам и запечатлеть их на своих полотнах. Но разрешения на поездку Иванов не получил, и мечта художника так и осталась неосуществленной.
И вот теперь, спустя тридцать с лишним лет, Поленов, находившийся еще со студенческой скамьи под сильным впечатлением от ивановского «Мессии» — картины, существенно скорректировавшей всю его дальнейшую судьбу, — попытался реализовать тогдашний замысел Иванова.
Так родился главный труд Поленова — его евангельский цикл «Из жизни Христа». Парадоксально, но факт: в истории искусства это, может быть, редчайший случай, когда название художественного цикла и его содержание так мало соответствуют друг другу, поскольку собственно событийный ряд оказался здесь не сквозным, а скорее побочным. На первое место вышли палестинские пейзажи. Но при этом, увлекшись достоверностью, красочным многоцветием природы, пленэрностью в передаче свето-воздушной среды, сотканной из ярких солнечных лучей и богатого разнообразия теней: от контрастирующей резкости до живописной легкости и прозрачности полутонов, художник не сумел погрузить их в атмосферу святости разворачивавшихся здесь действий. Потому подлинная натура, хотя и мастерски запечатленная на поленовских холстах, так и осталась в них видовыми картинами, в которых было больше географической точности, высочайшего живописного мастерства, вдохновенного любования и восхищения экзотической красотой, нежели духовного смысла. А в результате даже такая важнейшая евангельская тема, как Крещение («Крестились от него»), благодаря ее интерпретации в стилистике жизненной правды оказалась низведенной до житейски-прозаической сцены купания. И не более.
Таким образом, святые места у Поленова, обретя свою жизненную правдивость, реальность, утратили присутствие духа Христа, а вместе с ним и свою святость.
Да, существует непреложное правило: судить художника только по законам, им самим над собою признанным. И никто не собирается его оспаривать. Мы хотим всего лишь поставить вопрос о степени адекватности художественного воплощения религиозных идей.
Картина Поленова «Христос и грешница» (1887, ГРМ), с которой началось движение художника по «евангельскому кругу», программно обозначила направление этого движения, кульминацией которого стало созданное год спустя полотно «На Тивериадском озере» (1888, ГТГ). Поэтому и речь у нас пойдет именно о них.
Прежде всего необходимо обратить внимание на ту композиционную прямую, что связывает сидящего Христа и группу из двух фигур на вершине лестницы у самого входа в храм. В свое время было высказано, и достаточно убедительно, предположение, что один из них — старец, законоучитель Гамалиил, дед которого, первосвященник Гилел, был, как утверждают, учителем Христа. Сам Поленов писал: «В учении Гилела, в эпоху, которую мы привыкли считать еще не развитой ни в научном, ни в нравственном отношениях, мы не можем, однако, не видеть уже некоторой близости с учением Христа»[25]. Такое своего рода «предтечное» понимание учения Гилела, наследованное и развитое его внуком Гамалиилом, стало художественным оправданием ритмического стержня, связующего фигуры законоучителя и Христа. Идущие в параллель выступы, дверные проемы, колонны храма, а также фигуры людей, стоявших вдоль лестницы, и вытянутые стволы деревьев слева и справа в совокупности своей расширили пластический ареал этой вертикали. И таким образом удерживали зафиксированный смысловой акцент, когда Гамалиил, оставаясь наверху, предстоял миру горнему, а Христос, как «человек среди людей», — миру дольнему. Но это означает не что иное, как весьма существенное смещение религиозных акцентов. В результате предложенного художником решения возникает нарочитый образ, в котором Ветхий Завет оказывается над Новым. А это само по себе решительно противоречит церковному ортодоксу, согласно которому Откровение Слова не превалирует над Откровением Образа, а лишь предшествует ему.
Нечеткость, чтобы не сказать — ошибочность мировоззренческой позиции Поленова наложилась на его логику дальнейшего композиционного построения картины, в которой Христос с загорелым лицом сидит прямо на земле, и именно здесь, на земле, у подножия храма в атмосфере пейзажно-бытового жанра разворачивается основное действие. Нет, не случайно художественное чутье Поленова подсказало ему формат картины, вытянутый по горизонтали, ставшей пластической доминантой всей композиции. Художник необычайно сосредоточен на передаче жизненности происходящего, внимательно разрабатывает целый спектр материальной фактуры: от невесомой травинки до мощных каменных объемов храма; разворачивает широкую этнографическую панораму древнеиудейского костюма, дифференцируя его в зависимости от социальной, кастовой принадлежности того или иного героя; дает глубочайшую разработку психологических состояний: от тихой задумчивости, отрешенности до любопытства, страха и неимоверной злобы, граничащей с аффектом; наконец, тщательно прописывает раскинувшийся вокруг храма пейзаж, где растительность пробивается сквозь каменистую почву. Насыщенная прозрачными тенями, свето-воздушная среда картины, кажется, дышит южным зноем, опалившим лица людей, находящих спасение от его горячего дыхания под кроной раскидистого дерева с обильной листвой.
Реалистическая трактовка происходящего наполняет образный строй картины теми жизненными соками, что придают ей ощущение подлинности, правдивости. И в этом смысле Поленов действительно сохраняет верность своему первоисточнику. И все же…
Помещая практически в центр композиции фарисея и рыжебородого саддукея, за которыми — разъяренная толпа, приведшая грешницу, художник тем самым акцентирует самое начало евангельского действа, заключенного в вопросе: «Учитель!.. Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» (Ин. 8, 5). Как известно, особенность евангельского языка составляет его иносказательность, в которой за внешней событийностью сокрыта иная, божественная сущность. Представленная в простых, жизненно-подобных и убедительных образах, она уже поэтому, воспринятая через них, кажется очень простой и вседоступной. В то время как на самом деле весь евангельский текст представляет собой новозаветное знание, изложенное на языке притч и символов, ключом к раскрытию которых владеет лишь ортодоксальное богословие. Но именно эту ортодоксальность и отвергал Поленов, воспринимая текст в чистом виде, в его событийности, давая при этом свою интерпретацию, исходя не только из собственного понимания сюжета, но прежде всего из своих индивидуальных представлений вообще о вере, религии и Боге.
Между тем подлинный смысл «моисеевых камней» оказывается не в том, что ими можно забить насмерть. В переводе «камень» значит «мудрость». Мудрость воплощена в законе. Закон есть средство ограничения, но и соблюдения общепринятых правил и норм. «Моисеевы заповеди» как раз и формулировали эти нормы, соблюдая которые общество могло оградить и защитить себя от анархии и разрушения, что и определяло, в свою очередь, дисциплину общества как морально-этический принцип его жизнеустроения. Вот что защищал фарисей, «искушая» Христа.
Но тогда мы вправе задаться еще одним вопросом: почему прелюбодеяние, то есть преступление, представлено в Евангелии и, соответственно, на поленовском полотне в образе женщины? Не вдаваясь в богословские рассуждения, заметим, что начиная с языческих времен в мистическом сознании древних Земля — всегда жена, а Небо — всегда муж. Такое понимание взаимодействия двух миров как двух начал жизни осталось подосновой и христианства, в котором также именно с женщиной всегда ассоциируется образ дольнего мира, его земного начала в человеке и тесно связанного с этим представления о материи, плоти, грехе, наконец, с осознания которого и начинается христианская нравственность.
И если можно говорить о драматургии происходящего, то она как раз и являет собой встречу Христа с греховностью земного мира, воплощенной в собирательном образе грешницы, у которой даже имени нет. А Евангелие на имена не скупится. Поэтому драматизм евангельского события раскрывается не в фарисейском вопросе, а в том, которым Христос парировал выпад против него: «Кто из вас без греха?» (Ин. 8, 7). Но в картине нет этого встречного вопроса, равно как и нет ответа Христа фарисею, хотя и адресованного не прямо ему, а к грешнице. В словах Иисуса: «Иди и впредь не греши» (Ин. 8, 11) — раскрывается суть новой морали, в центре которой — любовь, и не только к одним ближним, но ко всем оступившимся и падшим. Эту надежду и веру в духовное исцеление всех и каждого как новый, нравственный принцип человеческого общежития и принес с собой Христос. Но ничего этого у Поленова нет. Главным так и остается вопрос фарисея, поскольку именно этот, начальный момент события был выбран сюжетом картины. Реакция Христа и сидящих вокруг него учеников — спокойная, хотя это то самое спокойствие, что дается с высоты открытой истины мира. Нет осуждения на их лицах, а есть осознание суетности мира. Но это не ответ, этого слишком мало, чтобы противостоять греху, бороться с ним. Но что же может предложить Христос-человек, скорее напоминающий христианского проповедника, чем Бога? Только дорогу к храму, которая, как это хорошо видно на холсте, открыта всем и каждому. Но разве любая другая религия не проповедует то же самое, не стоит на том же? Только у каждой религии — своя дорога к храму, а значит, и свой путь спасения.
И это тоже правда, но оказавшаяся в данном случае чем-то вроде абстрактного гуманизма, так сказать, мыслью вообще. В связи с этим невольно вспоминается высказывание Поленова об истине, которая ему была дороже вымысла. Но гуманистическое и божественное толкования истины разнятся между собой точно так же, как понятия «историческая правда» и «правда божественная». И весь вопрос в том, за какой правдой идет художник.
Скажем, в отличие от Поленова, истина для Александра Иванова заключалась в том, что Христос есть «свет миру», поскольку им прозревают, просвещаются людские души. Отсюда это стремление автора «Мессии» наполнить, насытить окружающий мир светом. Другое дело, что художнику не удалось добиться его неизреченного сияния, поскольку источником света стал не его божественный носитель, а горячее южное солнце, озаряющее одинаково и палестинский пейзаж, и собравшихся здесь людей, и самого Христа.
Мы не случайно вспомнили шедевр Иванова. Под его непосредственным впечатлением у молодого Поленова, решившего идти по стопам своего любимого художника, и созрела еще в молодости мысль, которую он осуществил спустя много лет в своей «Грешнице». Идя путем своего кумира, Поленов споткнулся на том же самом месте. И в его картине точно так же религиозное уступило место реалиям естественной природы и жизненной правде.
Но в отличие от Поленова, у Иванова все: и композиция, и психологическая атмосфера, наконец, сами идеи, которыми так насыщена его картина, находятся в постоянном развитии: от простого к сложному, от времени к вечности, от покаяния к воскресению. У Поленова этой внутренней динамики образа нет. Он всегда останавливается на начальной стадии евангельского сюжета, даже не пытаясь продвинуться дальше, хотя бы по событийной канве и через нее проникнуть в глубины евангельского текста. Его все время что-то останавливает. Лишенные движения, его образы отличаются внутренней статичностью. А в результате в них возникают существенные пустоты, которые и заполняет собой историзм. Именно он и продиктовал столь любимую Поленовым художественную форму для его выражения — пейзажно-бытовой жанр, в котором широкий простор для земных реалий, но нет места сакральному. Поэтому не случайно в «евангельском круге» Поленова, пронизанном гуманистической интерпретацией идеи, отчетливо слышна земная поступь Христа.
Наиболее сконцентрированно мысль эта оказалась выраженной в картине «На Тивериадском (Генисаретском) озере» (1888, ГТГ).
Холмистый берег дальнего плана не замыкает композицию наглухо, как, скажем, в одном из первоначальных вариантов, а постепенно, расходясь от центра влево и вправо, пластически замирает в голубом мареве, высвобождая зеленые долы и тем самым расширяя пространственную протяженность окружающего мира.
В построении пейзажа здесь явно просматривается пластическая аналогия с «Христом в пустыне». С той лишь разницей, что у Крамского нет реальной конкретики, а есть реальность связующего оба мира, которые, в свою очередь, представлены в образах бесконечности и необъятности. У Поленова же при всей обобщенности картины, торжественности взятой им ноты повествования все же нет этого образа предстояния Земли и Неба, настолько велика здесь степень географической привязанности к месту события.
Выявляя первозданную красоту мира, художник вместе с тем стремится передать материальную фактуру земли в самых разных ее свойствах и качествах. Тщательно выписанные валуны, булыжники и даже мелкая галька, обкатанная водой, словно гипнотически приковывают к себе наше внимание, контрастируя с прозрачной, податливой водой, сверкающей отраженным светом радужного сияния южного полдня. Идущая по узкой тропинке фигура Христа естественно и органично вписывается в этот материальный мир своей телесностью, этнографизмом. Здесь нет ивановской надмирности. Напротив, Христос Поленова — земной, живущий на земле и осязаемо ступающий по ней, а потому и не свободный от проявления ее физического воздействия на него. Отсюда потемневшие от загара лицо и руки, некоторая усталость человека, идущего под палящим солнцем, опираясь на посох. Но благодаря тому что пластическое действо картины организовано по правилам неукоснительного следования правде жизни, где главным является требование достоверного, жизненно-наблюденного — реалистического; именно поэтому такая деталь, как посох, воспринимается всего лишь как весьма характерный атрибут всех странствующих, помогая путнику твердо стоять на земле. И не более.
Между тем именно в нем и заключена вся суть евангельской мысли: «И заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха: ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе…» (Мк. 6, 8). Так наставлял своих учеников Христос.
Как мы отмечали выше, иносказательная природа евангельского языка уже предполагает восприятие текста не в буквальном, а в переносном смысле, когда не только факт, но даже отдельная деталь предстает в нем многозначным образом. Посох в данном случае и возникает сакральным образом веры как опоры человека на жизненном пути.
И все было бы логично в художественном построении образа картины, если бы на ней был так изображен кто-либо из апостолов, но только не Христос, Который в этой опоре не нуждается. Ведь Он Сам и есть воплощенное Слово, Истина и в этом смысле Он — свет и опора миру. Он «вполне человек — по плоти человеческой, Он — не привидение, — писал автор „Слова о законе и благодати“. — Но вполне Бог — по-божественному, это не просто человек, явивший на земле божеское и человеческое»[26]. Эта двуединая ипостась Христа в поленовском герое между тем никак не выражена. И даже более того, человеческое начало в нем оказалось всеподавляющим.
Христос Поленова не отторгает, а тем более не противостоит материальной основе мира, но является как бы естественной частью ее и в этом смысле он принадлежит Земле, а не Небу. И потому соизмерим с человеком и сам есть человек, а не вочеловечившийся Бог.
Перед нами скорее странствующий мыслитель, погруженный в раздумья, чья философская глубина может быть соизмерима с масштабом сущего мира, который нельзя охватить взглядом, но можно объять мыслью. Именно она в пластической драматургии картины и возникает главной опорой поленовскому Христу.
Поэтому мы склонны согласиться с теми, кто считает «Тивериадское озеро» ведущим произведением цикла, поскольку именно в нем наиболее полно раскрылось гуманистическое видение образа Христа, величие которого Поленов вслед за Ивановым и Крамским измеряет масштабом всепроникающей, всеохватной, но все же земной мысли, а не божественной премудрости.
Еще со времен Иванова сама божественная премудрость оказалась препарирована гуманистическим рационализмом, и понятие Высшего Разума оказалось подменено Разумом Абсолютным.
Будучи близким другом Виктора Васнецова, Поленов тем не менее по своим умонастроениям был все же ближе именно этой линии развития религиозной живописи, продлившейся и в творчестве И. Н. Крамского. Потому возникает и невольная аналогия с его «Христом в пустыне». Герой Крамского, глубоко погруженный в себя, весь охвачен мучительными вопросами, стремясь постигнуть сложности и противоречия жизни. И следовательно, для художника главной, изначальной силой Христа оказывается мысль.
Картины Крамского и Поленова концептуально необычайно близки друг другу. При этом Крамской не скрывал своей личной сопричастности образу Христа. «Итак, это не Христос, — писал он, — То есть я не знаю, кто это. Это есть выражение моих личных мыслей»[27]. Иными словами, Крамской, очеловечив Христа, наделил его своими «личными мыслями», что означало подмену личности и совершенства Бога личностью самого художника со всеми его достоинствами, страстями и заблуждениями. тем самым, продолжая линию Иванова, Крамской закрепил в искусстве право на создание каждым художником своего образа Христа, а значит, по своему видению и вымыслу. Между тем апостольская заповедь утверждает прямо противоположное: «Итак мы… не должны думать, что Божество подобно… камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого» (Деян. 17, 29). Но русская религиозная живопись отошла от этой заповеди, лежащей в основе иконописной традиции с ее однотипностью Божьего лика, независимо от века, автора и эстетической стилистики.
Поленовский Христос — не только не исключение из общего художественного ряда своего времени, но его естественная составляющая. Правда, в отличие от своих предшественников, автор «Тивериадского озера» утверждает идею гуманистического Христа не только как свою, сугубо личную, но уже как отстоявшуюся и даже господствующую в расцерковленном сознании. В историческом времени эта ситуация осложнялась, нарастая словно снежный ком: от критики — к нигилизму, от него — к отрицанию жизни и, как следствие, — нежеланию жить. На рубеже веков эпидемия самоубийств начала принимать угрожающий характер, особенно среди молодежи. А это уже время Поленова. В письме к В. М. Васнецову художник пишет: «Мне кажется, что искусство должно давать счастье и радость, иначе оно ничего не стоит. В жизни так много горя, так много пошлости и грязи, что если искусство тебя будет сплошь обдавать ужасами и злодействами, то уже жить станет слишком тяжело»[28]. Таким образом, Поленов разделял родившуюся в те же самые 80-е годы знаменитую идею отрадного в искусстве, выдвигавшуюся тогда как средство противостояния «ужасам и злодействам». Потому-то Христос и в «Грешнице», и в «Тивериадском озере» лишен активного, действенного начала, что и привнесло в картины настроение пассивной созерцательности. Поленова не подвела художественная интуиция, возобладавшая над его идеями о «счастии и радости». И в значительной мере благодаря этому неосознанному, необъяснимому предощущению картины оказались преисполненными драматического провидения. Ведь в своей абсолютизации человека гуманизм, все время спотыкаясь о действительность, оказывается каждый раз перед фактом крушения своих умозрительных идеалов. Как не вспомнить здесь слова того самого Гамалиила, законоучителя: «Если это предприятие и это дело — от человеков, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его» (Деян. 5, 38–39).
Между тем гуманистическое сознание отрекается от «всей этой богословии как совершенно лишней», ибо религия перестала быть, по мнению художника, «действительно живой силой, когда она руководила человеком, была его поддержкой» [29]. Но, как известно, свято место пусто не бывает, и функции этой «поддержки» начинает принимать на себя эстетика, понимаемая теперь уже как основа этики. Ведь «только тогда зло побеждено, — утверждал один из современников В. Д. Поленова, — когда человек чувствует его безобразным»[30]. Однако если антитезой безобразного является искусство, то именно оно по гуманистической логике становится залогом этического благополучия общества. Исходя из этой логики, Поленов и пришел к тому же самому выводу: «Ничто так не смягчает нравы, как оно (искусство. — М. П.), ничто так не отвлекает людей… как причастие к искусству»[31].
Необходимо подчеркнуть, что эта точка зрения была преобладающей в художественной ситуации начала века, несмотря на весь ее стилистический плюрализм. И высказана она была художником в самый разгар «духовного и политического нигилизма», историческая перспектива которого хорошо известна. В то же самое время, охарактеризованное тем же Поленовым как «время лжи, притворства и наглого цинизма»[32], Васнецов, например, приходит к совершенно иному выводу: красота, явленная вне духовного наполнения, а только в эстетическом существе своем, не спасает.
Но в обществе с прогрессировавшей духовной глухотой эта мысль художника так и осталась гласом вопиющего в пустыне. Между тем логика васнецовского рассуждения невольно приводит нас к выводу: опустошенная бездуховностью красота хотя и может поселить в душе некоторое умиротворение и даже вызвать настроение созерцательности, но она все же «не смягчает нравы», поскольку не несет в себе никаких идей и идеалов, за которыми духовное преображение человека. Бездуховная красота сама может быть низведена до уровня умозрительных ценностей и подпасть под всевластие прагматических идей.
_____________
Примечания
[1]. ОР ГТГ, ф. 54, ех. 8.
[2]. Там же.
[3]. Там же, ех. 19.
[4]. Леонтьев К. Записки отшельника. М., 1992. С. 145.
[5]. там же. С. 151.
[6]. Крамской И. Н. Его жизнь, переписка, художественно-критические статьи. СПБ., 1888. С. 584.
[7]. Библейские мотивы в русской школе. Русский вестник. 1887. № 1. С. 395.
[8]. Сахарова Е. В. В. Д. Поленов. Е. Д. Поленова. Хроника семьи художников. М., 1964. С. 389 (В дальнейшем: Сахарова Е. В. Хроника…).
[9]. И. А. Гончаров-критик. М., 1981. с. 107.
[10]. ОР ГТГ, ф. 54, ех. 5561.
[11]. Сахарова Е. В. Хроника… с. 336.
[12]. Там же. с. 661.
[13]. Там же. с. 619.
[14]. Там же.
[15]. Там же.
[16]. Там же. с. 755.
[17]. Там же. с. 207.
[18]. ОР ГТГ, ф. 54, ех. 28.
[19]. Сахарова Е. В. Хроника… с. 619.
[20]. Короленко В. Г. Собр. соч. М., 1955. т. VIII. С. 294.
[21]. Ремезов А. Жизнь Христа в трактации художника. К выставке картин академика Поленова «Из жизни Христа». Сергиев Посад, 1915. с. 23.
[22]. Там же.
[23]. Короленко В. Г. Указ. соч. С. 294.
[24]. Кристи И. И. Историческая правда в искусстве. По поводу картины Поленова. М., 1887. с. 10.
[25]. ОР ГТГ, ф. 54, ех. 19.
[26]. Митрополит Иларион Киевский. Слово о законе и благодати. В сб.: Русская идея. М., 1992. с. 24.
[27]. Крамской И. Н. Письма. М., 1965. Т. 1. с. 447.
[28]. Сахарова Е. В. Хроника… с. 393.
[29]. ОР ГТГ, ф. 54, ех. 65.
[30]. Сахарова Е. В. Хроника… с. 693.
[31]. Там же. с. 675.
[32]. Там же. с. 620.
Поделиться: