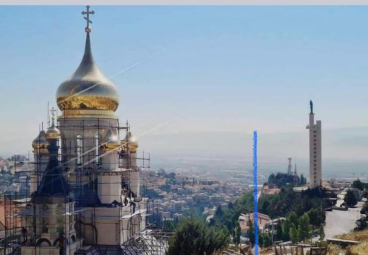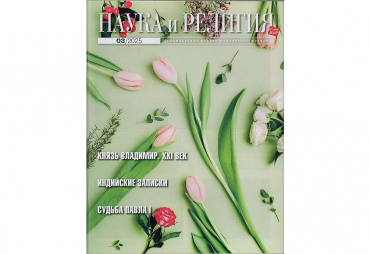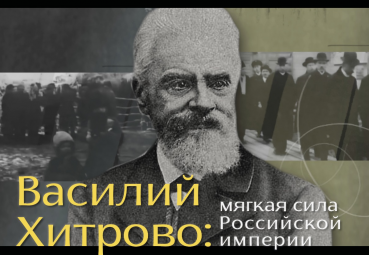Библейские эскизы Александра Иванова

Ангел поражает Захарию немотой
“И вот, ты будешь молчать, и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время” (Лк. 1, 20).
Мы публикуем историко-искусствоведческое исследование Нины Александровны Дмитриевой «Библейские эскизы Александра Иванова», написанное для книги-альбома, замысел которого принадлежал протоиерею о.Александру Меню; он собирался написать комментарии богословского характера. Для предполагаемого издания были изготовлены слайды с хранящихся в Государственной Третьяковской галерее акварелей библейского цикла. Альбом будет включать 200 иллюстраций, (более половины всех сохранившихся эскизов), каждая сопровождается комментарием, содержащим краткое объяснение сюжета и выдержки из текстов Ветхого и Нового заветов.
К сожалению, книга еще не нашла своего издателя. Мы даем лишь малую часть иллюстраций, осознавая при этом, что полноценное воспроизведение акварелей требует очень высокого полиграфического качества. И все же мы полагаем, что это будет радостное знакомство с уникальной страницей русского искусства.
Понимание искусства как жизнестроительной миссии наложило своеобразный отпечаток на русскую культуру XIX столетия. Не только для Гоголя, Достоевского, Льва Толстого, но и для передвижников художественный труд имел важность постольку поскольку служил духовному совершенствованию людей. В этическом максимализме русских художников, возможно, сказывалась преемственность с многовековой культурой Древней Руси, где эстетическое сознание не отчленялось от религиозного. Преемственность, конечно, неосознаваемая: в XIX веке образ мыслей круто переменился, старинную иконопись позабыли, новый художественный язык, ориентированный на европейское Возрождение, не имел с ней ничего общего. Но где-то в потаенных генах прошлое продолжало жить. Древние благочестивые иконописцы не мыслили свое искусство вне служения Богу; их вольнодумные потомки, даже и не верящие в Бога, видели в искусстве служение чему-то высшему, чем оно само. Если не Богу, то нравственному обновлению человечества, не меньше.
Живописец Александр Иванов представляет такой тип художника в самом чистом выражении. Идея художественного мессианизма владела им повелительно, превратила его жизнь в подвижническое житие. Это произошло с ним не благодаря полученному воспитанию, скорее вопреки. Он был воспитанником императорской Академии художеств, обучавшей своих питомцев в духе эпигонского неоклассицизма и прививавшей им довольно формальное отношение к делу искусства. Учеников набирали только из низших сословий, приученных к послушанию; обучение начиналось с детского возраста и длилось двенадцать лет. Вырваться из-под пресса жесткой академической системы удавалось немногим.

Первый день творения: свет
Заметный сдвиг и в мыслях и в творчестве наступил уже в первые годы жизни в Риме, куда Иванов прибыл в 1830 году. В Петербурге среда художников, вербовавшихся из семей мещан и мастеровых, была обособлена от той напряженной умственной жизни, которой жила тогда дворянская интеллигенция. К ней были так или иначе причастны лишь немногие живописцы, в том числе “видописец и перспективист” (то есть пейзажист) Карл Рабус: современники отзывались о нем как о самом просвещенном художнике. Иванов дружил с Рабусом, снабжавшим его списками книг для чтения; других тесных знакомств вне академического круга у него, по-видимому, не было. В Риме же молодые русские художники – пенсионеры академии имели возможность общаться и с иностранцами, и со своими земляками – писателями, артистами, музыкантами, наезжавшими в вечный город. Здесь Александр Иванов стал бывать в салоне Зинаиды Волконской, у нее свел знакомство с молодым философом Николаем Рожалиным, участником кружка любомудров. Как много значили для Иванова их беседы, можно судить по письму к Рожалину, где он пишет: “Отцу моему я обязан жизнью и искусством, которое внушено мне как ремесло. Вам я обязан понятием о жизни и об отношении искусства моего к источнику его – душе”.
Рожалин, умерший от туберкулеза совсем молодым, был одним из ранних русских романтиков, вкусивших плоды германской философии. Незадолго до приезда в Рим он слушал в Мюнхене лекции Шеллинга по философии искусства. Очевидно, они занимали не последнее место в разговорах с Ивановым, еще в Петербурге читавшим некоторые сочинения Ваккенродера, Новалиса, Августа Шлегеля. Возможно, идеи шеллингианства были не совсем по плечу выученику российской Академии художеств, дававшей более чем скудное общее образование (о чем Иванов всегда сокрушался), но то главное, что отвечало складу его творческой личности, он принял всей душой: мысль о великой миссии искусства в приближении духовного возрождения общества. Искусство, согласно Шеллинговой философии тождества, воссоединяет в себе начала, которые в теоретическом мышлении разобщены – всеобщее и единичное, природу и дух, идеальное и реальное, – являясь в этом смысле подобием творчества Бога, создавшего Вселенную. Сознание высокого предназначения искусства, его единства с религией и философией укоренилось в миросозерцании Александра Иванова. Его окрыляла мысль, что и пластические искусства не сводятся к ремеслу, а “есть такая же умственная отрасль в человечестве, как поэзия и музыка”.
Под впечатлением бесед с Рожалиным Иванов написал картину “Аполлон, Кипарис и Гиацинт” – лучшее произведение своей молодости. Он написал его во славу искусства. Предводитель муз обучает пению и игре на свирели двух прелестных мальчиков-пастухов (они же олицетворяют природные начала: Кипарис – дерево, Гиацинт – цветок). Художник неспроста выбрал этот малоизвестный сюжет греческой мифологии. Музыка в представлении романтиков была парадигмой всех искусств, сосудом мировой гармонии.

Картину эту Иванов не отсылал в Петербург – оставил у себя и никогда с ней не расставался: она была его заветным, интимным творением, а для отчета перед Обществом поощрения художников надо было найти другой сюжет. Художник намечал несколько возможных и наконец остановился на эпизоде из истории библейского Иосифа – “Братья Иосифа находят чашу в мешке Вениамина”.
Эта многофигурная композиция должна была показать петербургским меценатам умение их подопечного компоновать, группировать, драпировать, справляться со сложными ракурсами и с достаточной отчетливостью (это слово любили в академии) представить драматическую суть происходящего – удивление и растерянность братьев. Иванов послал в Петербург два эскиза, получил в ответ одобрение одного из них и несколько замечаний, касающихся частностей. Оставалось приняться за картину. Но художник не спешил, по-видимому, замысел мало удовлетворял его самого. С присущей ему добросовестностью он сделал еще двадцать вариантов композиции, показывал их другим художникам, ожидая советов. Слушал многих, но послушался одного.
Им оказался не ученик Давида Камуччини и не прославленный ваятель Торвальдсен (оба жили тогда в Риме), а немецкий живописец Фридрих Овербек, глава “назарейцев”. Назарейцы отрицательно относились к методам европейских академий. Они ориентировались на “дорафаэлевскую” эпоху XV века, когда искусство, по их мнению, было искренним и непосредственным выражением религиозных чувств. Иванов питал большое уважение к Овербеку: он импонировал ему не столько своей живописью, довольно сухой и постной, чего Иванов не мог не замечать, сколько взглядами, суждениями, образованностью. Образ мыслей Овербека формировался под влиянием немецкой романтической философии, к которой Иванов приобщался через Рожалина. Именно от Овербека Иванов услышал решающее слово, подсказавшее ему выбор пути. Рассматривая эскиз “Братьев Иосифа”, Овербек заметил, что (цитирую письмо Иванова от 1833 года в Общество поощрения художников) “предмет мой есть эпизод истории Иосифа: всякий эпизод не достоин быть большой картиной, ибо есть привходящая часть истории, и потому лучше выбирать сюжеты для больших произведений, составляющие целый объем чего-либо (поэму). С этой мыслью занялся я снова отысканием для себя сюжета, прислушивался к истории каждого народа /…/ и нашел, что выше евреев ни одного народа не существовало, ибо им вверено было свыше разродить Мессию, откровением коего начался день человечества! Таким образом, идя вслед за алканием пророков, я остановился на Евангелии – на Евангелии Иоанна! Тут на первых страницах увидел я сущность всего Евангелия – увидел, что Иоанну Крестителю поручено было Богом подготовить народ к принятию учения Мессии, а наконец и лично Его представить народу. Сей-то последний момент выбираю я предметом картины моей, то есть когда Иоанн, увидев Христа, идущего к нему, говорит народу: “Се агнец Божий, вземляй грехи мира!..”

Грехопадение
Скромный в жизни, в искусстве Иванов строил великие планы. Художественный максимализм был свойством его натуры, подогреваемым идеями романтиков. Исследователь немецкого романтизма Н. Я. Берковский пишет: “Ранний романтизм стремился к большим поэтическим формам, к роману со всесветным содержанием, если не к эпопее, к развернутым театральным зрелищам, к многоэпизодным драмам, к феериям и мистериям”. В дальнейшем, говорит Берковский, романтикам пришлось разочароваться в идее преобразования мира через искусство, и большие формы вытесняются лирическими жанрами. Но Иванову лирическая стихия осталась чуждой. Он утвердился на стадии романтически-эпической, на “всесветном содержании”, на универсуме. В этом отношении философия романтизма была для него не просто преходящим увлечением молодости, а прочно укоренилась в сознании, оплодотворив не только подвижнический труд над “Явлением Мессии”, но, как увидим дальше, и работу над библейскими эскизами.

Бог карающий
* * *

“И сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, (и иди) в землю, которую Я укажу тебе. И Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое… Я благословлю благословляющих тебя, а злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе все племена земные” (Быт. 12, 1–3).
Александр Иванов стал “невозвращенцем”. Правда, пенсион ему выплачивали еще три года сверх положенного. Он много ездил по Италии, открывал для себя новые художественные миры – не только венецианских колористов Тициана, Веронезе и Тинторетто (а также Беллини и Чима да Конельяно), которых в российской академии не очень жаловали, но и много такого, о чем там не имели понятия или считали недостойным внимания: Джотто, мастеров кватроченто, средневековые мозаики и фрески. Рафаэля и Леонардо да Винчи Иванов по-прежнему ставил превыше всего, но это не мешало ему впитывать и совершенно иные впечатления. Главное же для него – быть “вечно в наблюдениях натуры”. Он не считал себя пейзажистом, но в “Явлении Мессии” нужно было изобразить берег реки, дерево, пустыню, дальние горы – и он писал горы в Неаполе, “реку чистейшей и быстро текущей воды” в Субиако, старую Аппиеву дорогу в Риме, Понтийские болота. Писал этюды почвы, камней, веток. Никогда не сбивался на банальную сладость в изображении итальянской природы: его пейзажи, несмотря на небольшие размеры, эпически величавы и могут напомнить о классических ландшафтах Пуссена, с той разницей, что у Иванова все прослежено и проверено на природе. Камни в горном ручье, ветка дерева на фоне лиловеющих далей учили его тайнам цвета, определяющего форму и пространственные планы, меняющего оттенки в зависимости от освещения. Он замечал самые тонкие эффекты: как “скачущая пена, соединяясь с росой, кроет лиловато-седоватым цветом и зелень, и скалы, и все, возле находящееся”. Постоянно работая на пленэре, стал писать синие тени, цветные рефлексы в тенях, предвосхищая видение импрессионистов, но предметы у него не подвергались “развеществлению”, сохраняли осязаемую материальность, цвет оставался звучным и насыщенным, композция – строго построенной. В искусствоведческой литературе Иванова иногда не без основания сопоставляют с Сезанном. Но то, что для Сезанна было целью, для Иванова было средством. Он утверждал, что отдельно от большой картины его этюды, особенно ценимые художниками, “мало значат”.
Он не считал себя и портретистом, даже презирал портретный жанр как самостоятельный, но в поисках нужного для картины типажа писал множество разнообразных лиц. При этом действовал методом “сравнения и сличения”, стремясь “согласить творчество старых мастеров с натурой”. Это не значит, что он “поправлял” свои натурные этюды по античным или ренессансным образцам (такой метод он решительно отвергал), он искал в жизни лица, подобные тем, что могли вдохновить старых мастеров. Вглядываясь, например, в античную голову фавна, словно задавался вопросом: какова была натура, претворившаяся в этом образе? И сквозь ужимки мраморного козлоногого божества ему виделось сморщенное лицо раба с жалкой улыбкой. Наблюдения над живыми людьми вносили новые обертоны: среди этюдов головы раба есть головы нищих с изуродованными лицами, клейменых каторжников, есть лица забитые и мятежные, приниженные и вызывающие, есть даже женские и детские, смеющиеся. Так он работал почти над каждым персонажем “Явления Мессии”, проводя его через ряд перевоплощений.
Он мечтал посетить Палестину – место действия своей картины, и еще в 1834 году, а потом снова в 1837-м обращался в Общество с просьбой командировать его туда, но ему решительно отказали, а собственных средств на поездку не было. Художнику пришлось удовольствоваться поисками нужного типажа и ландшафта в Италии. Как Рембрандт для своих библейских сюжетов писал обитателей еврейского гетто в Амстердаме, так и Иванов искал прообразы для картины в синагогах. Он сообщал сестре: “Я им (евреям. – Н.Д.) очень, очень нравлюсь моею начитанностью Библии, и они мне очень, очень нравятся в своих синагогах, где я вижу гораздо более набожности, чем в нынешних церквах христианских”.

“И боролся Некто с ним до появления зари; и увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его, и повредил состав бедра у Иакова…
И сказал (ему): отпусти Меня, ибо взошла заря. Иаков сказал: не отпущу Тебя, пока не благословишь меня.
И сказал: как имя твое?
Он сказал: Иаков. И сказал (ему): отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль; ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь” (Быт. 32, 24–28).
Шли годы; художник трудился с неостывающим жаром: вся его жизнь сосредоточилась на работе над грандиозным полотном, а конца все не было видно. Он обрек себя на крайнюю бедность, так как больше не получал денежной помощи, а брать ради заработка посторонние заказы не хотел – это отвлекало бы его от главного дела. Так он и отвечал на увещания друзей и родных. В 1840 году писал брату: “Ты говоришь: оканчивай скорей картину, чтобы начать другую. Сыщи мне сюжет выше. Что ты скажешь? Ну, подобный! – трудно; нет, я думаю, и невозможно. Так чем же ты меня заманишь к следующей картине?” Что было делать с упрямцем? Он не обзавелся семьей, видя в привязанности к женщине “страшное препятствие для занятий”, хотя к женщинам его влекло. О возвращении в Петербург, в ненавистную академию не хотел и слышать, но, неисправимый утопист, измышлял проекты устройства быта русских художников, один другого фантастичнее.
Об Иванове с его никак не кончавшейся картиной в России ходили всевозможные толки: его считали не то чудаком, не то святым или тем и другим вместе. Художники в Риме, знавшие Иванова, иногда над ним подшучивали, но в общем любили римского затворника, возвышенного и простодушного, хотя, кажется, никто не решался ставить его, как художника, наравне с пожинавшим лавры Брюлловым.

“И призвал (фараон) Моисея и Аарона ночью, и сказал (им): встаньте, выйдите из среды народа моего, как вы, так и сыны Израилевы, и пойдите, совершите служение Господу Богу вашему, как говорили вы” (Исх. 12, 31).
Любил Иванова и Гоголь, с которым он близко сошелся в Риме. В 1846 году Гоголь написал в форме письма к М. Ю. Виельгорскому статью “Исторический живописец Иванов” – она вошла в “Выбранные места из переписки с друзьями”. Практической целью статьи было привлечь внимание русского общества к бедственному положению художника и дать ему средства для окончания картины – “ему, как мастеру, сидящему над таким колоссальным делом, какого не затевал доселе никто”. Гоголь говорил, что вся материальная часть картины Ивановым уже исполнена, и исполнена в совершенстве, но, чтобы “изобразить на лицах… ход обращения человека ко Христу”, мало неустанной работы, натуры, воображения, нужно, сверх всего этого, истинное всецелое обращение ко Христу самого художника. “И это было предметом сильных страданий его душевных и виною того, что картина так долго затянулась”.
Возможно, Гоголь был прав: Иванова посещали сомнения. Как видно из его записей, он все время пытался осмыслить в свете разума евангельские откровения. Ведь он с самого начала осознавал себя историческим живописцем, а картину свою – исторической картиной, не только в смысле “точностей антикварских”, но, главное, в том, что изображаемое эпохальное событие является звеном человеческой истории, связано и с ее прошлым, и с будущим. Значит, большой путь исканий истины этому событию предшествовал и еще больший простирается впереди, теперь уже на путях разума, науки, “посредством математики”, как выражался Иванов на своем тяжеловесном языке. Ищущей мысли художника постепенно становилось тесно в границах одного “Явления Мессии”: ведь и этот сюжет был только частью, только моментом истории.
Уже с конца 1830-х годов он стал позволять себе некоторые отходы в сторону от работы над картиной. До 1848-го (года “перелома”) таких отходов у него было немного, но каждый так или иначе подводил его к будущим библейским эскизам.
В 1839–1842 годах он написал несколько акварелей (впервые воспользовавшись этой техникой) на бытовые темы: “Жених, выбирающий кольцо для невесты”, “Пение Ave Maria на городской площади”, “Октябрьские праздники в Риме”, – то есть произведения бытового жанра, к которому всегда относился осуждающе. В данном случае он проявил непоследовательность, но, как известно, жесткая последовательность не всегда хороша, и во всяком случае не является добродетелью художественных натур. В неожиданном обращении Иванова к жанру могла сказаться и просто потребность дать себе некоторую разрядку, и его любовь к римской уличной жизни, к экспансивной, веселой итальянской толпе; могло здесь быть и влияние Гоголя. Наконец, работая над этими вещами, художник тренировал свою наблюдательность, что отозвалось потом в библейских эскизах, где и житейские мотивы находили место. Но когда Общество поощрения художников предложило Иванову сделать еще несколько жанровых композиций, он решительно отказался, мотивируя опять-таки невозможностью отвлекаться от главной работы.

Еще раз он отвлекался в 1845 году, также на дело для него необычное – создание запрестольного образа “Воскресение” для храма Христа Спасителя, возводимого в Москве по проекту К. Тона.
В XIX веке многие светские живописцы писали образа для церквей, отец Александра Иванова после увольнения из академии зарабатывал этим на жизнь. Писали образа в академической манере, не имеющей ничего общего с древнерусской традицией. Александр Иванов к академической “иконостасной” живописи относился резко отрицательно, а старинной иконописи, как и все его современники, почти не знал, кроме поздних икон XVIII века. Но убранство храма Христа Спасителя предполагалось “в византийском вкусе”, и это настолько заинтересовало художника (он видел в Италии византийские памятники), что он по собственному почину, не дожидаясь официального заказа, начал работать над эскизами “Воскресения”, со свойственной ему основательностью добираясь до исторических корней – до “прадедной символики церковной”. Он просил отца и своих друзей из числа славянофилов присылать ему иконные прориси и книги об иконописании. Славянофилы так же мало знали о русской иконе, как и западники, а отец не одобрил намерения Александра, считая, что придерживаться старого иконного стиля – значит потакать необразованности народного вкуса.
Однако Иванову удалось получить некоторые материалы через посредство младшего брата, архитектора. Прежде всего он изучил иконографию. В византийской и древнерусской живописи воскресение Христа изображалось не прямо, а косвенно: или жены-мироносицы у опустевшей гробницы, где их встречает ангел, или нисхождение воскресшего Христа в ад, откуда он выводит ветхозаветных праведников и прародителей человечества Адама и Еву. Иванов остановился на “Сошествии во ад”, различно варьируя композицию. В окончательном эскизе он достиг, сколь возможно, органического объединения иконописного “апотеозического” стиля с элементами современного видения. Как и в древних иконах, изображение ориентировано на плоскость, перспективное построение отсутствует. Но есть ощущение фактурности, вещественности, которого в иконописи обычно нет. В верхней части – облака и звезды, подобие космического пейзажа, внизу – тяжелые разломанные адские врата, кого-то придавившие под обломками, выглядят, как след мощного землетрясения. В разверзшейся мрачной бездне ангелы связывают и изгоняют бесов.

“И сказал Господь Моисею, говоря: скажи Аарону и сынам его: так благословляйте сынов Израилевых, говоря им:
Да благословит тебя Господь и сохранит тебя!
Да призрит на тебя Господь светлым лицем,
Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир!” (Числ. 6, 22–26).
Иванову не пришлось предъявлять свой эскиз – заказ на запрестольный образ получил Брюллов, а Иванову предложили написать четырех евангелистов. Он отказался: теперь он не мог писать ничего заданного, а только то, что облюбовал сам. Единственная попытка работать для церкви не состоялась, но Иванов не слишком об этом жалел: зато работа над “Воскресением” дала ему новую идею – идею необычного храма, где иконостас был бы исполнен в традиционном “апотеозическом” стиле, а в стенной росписи, посвященной евангельской и ветхозаветной истории, стиль постепенно переходил бы в современный исторический; ограда храма должна была быть украшена “мозаическими изображениями всех важнейших происшествий нашей истории до сего времени”, наружная ее часть – “всемирными эпохическими предметами”. Этот громоздкий утопический проект предвосхищал более поздний замысел “храма человечества” (уже не церкви), для которого предназначались библейские эскизы.
В альбомах Иванова все чаще появляются наброски композиций на сюжеты из Библии, не связанные с “Явлением Мессии”, среди них иллюстрации к Книге Бытия. Сделанные в 1846–1847 годах, они предваряют позднейший библейский цикл и могут рассматриваться как его начало (так называемые протобиблейские эскизы). Рисунки, посвященные грехопадению Адама и Евы (5,6), сравнительно малооригинальны: в них Иванов сбивается на привычные академические методы композиционных решений. Но исключительно интересны монохромные акварели “Дни творения”. Здесь художник дает волю фантазии, не следуя никаким образцам. Он отдается во власть изначальным космогоническим представлениям о Творце как мудром мастере, который любовно лепит и оживляет мир, вызванный им из небытия. Сама манера рисунка – скупые линии, компактные очертания, без растушевки и проработки объемов – призвана выразить величавую простоту древнего предания. В наброске “Дух Божий носился над водами”(2) возникает образ довременного хаоса, Мирового океана; Дух, носящийся над бурными беспорядочными волнами, не имеет определенной формы: то ли руки, то ли крылья, распростертые над бездной. Но вот хаос усмирен, сотворена земная полусфера, бескрылые ангелы бережно поддерживают руки Саваофа – большие чуткие руки скульптора: он вкладывает в новосозданный мир солнце и месяц, потом маленьких людей и животных. Истинно монументален небольшой по размерам лист – оживление Адама (4). Длинными тянущимися горизонталями, горизонтальной грядой облаков создается впечатление бескрайней пустынной равнины: земля без человека. Посередине лежит Адам – еще безжизненная кукла. Саваоф приникает к его лицу, чтобы вдохнуть душу.

“На другой день они встали рано, и принесли воссожжение, и сел народ есть и пить, а после встал играть” (Исх. 32, 6).
В те же годы Иванов усердно читал Библию и делал записи в особой тетради. Его “Мысли при чтении Библии” фрагментарны, в них не сразу можно обнаружить систему. На своем трудном духовном пути он возводил и рушил многие воздушные замки. Часто он возвращается к мысли о провиденциальном назначении России и русских художников в обновлении человечества и наступлении золотого века. Большие надежды возлагает на царя – при условии, что тот будет прислушиваться к пророческому голосу художников, призванных смягчить нрав государя и расположить его к милосердию, как Давид смягчал своей музыкой Саула, а сами художники будут избавлены от “подлейшего чиновничества, нас на каждом шагу угнетающего”. Нужно заметить, что в 1845 году Николай I приезжал в Рим и посетил мастерскую Иванова; Николай умел при желании обворожить собеседника – так было и с Пушкиным, а с доверчивым Ивановым не составляло труда. Иванов потом писал Языкову, что приход царя дал ему “чувство собственной значимости”. Больше прежнего он чувствует себя призванным проложить новый путь в искусстве. Как ему мыслился этот путь? Теперь он полагал нужным разграничить сферы живописи иконной и исторической. Иконники пусть следуют традиции, “вчитываясь в греческих пастырей”, то есть в сочинения отцов церкви. “А образованным художникам нашим предстоит поприще чисто исторической живописи, в которой они долженствуют соединить развитие искусства итальянского в 15-м столетии с глубокими сведениями древности, взвешиваемыми беспрестанно чистейшим критическим разумом русским”. Задуманный им “храм” будет представлять “результат всех верований, отданных на разбор последней нации на планете земле”.
Такова общая программа, которую Иванов считал желательной для современного искусства. А философический подтекст библейских эскизов, к которым он вскорости приступил, выражен в следующей записи: “Человек чувствует божество бесконечное, самовластное и бестелесное. Но он не в силах его изобразить иначе, как приписав ему свои человеческие качества, составляя таким образом себе идеалы. Отсюда художник начинает свои действия…”

«По прошествии некоторого времени этот поток высох; ибо не было дождя на землю». (3 Цар. 17, 7).
Мысль эта близка идеям немецкого философа Людвига Фейербаха. Но есть и существенная разница. Фейербах, считавший, что “религия есть сон человеческого духа”, видел в ней возвышение и обожествление собственно земных, человеческих качеств. Иванов же думал, что человек приписывает божеству эти качества, так как иначе не в силах выразить невыразимое и только так может облечь в форму свой внутренний религиозный опыт.
* * *
Революционные события 1848 года нарушили тихое затворничество Александра Иванова. Общественные потрясения, кипение политических страстей, от которых “римский отшельник” всегда был далек, подступили к порогу его кельи. Сначала он лишь беспокоился, как бы все это не помешало его работе над картиной. А. И. Герцен позже вспоминал: “Я познакомился с ним в Риме в 1847 году. При первом свидании мы чуть не поссорились. Разговор зашел о “Переписке” Гоголя. Иванов страстно любил автора, я считал эту книгу преступлением. Влияние этого разговора не изгладилось, многое поддерживало его. Настал громовой 1848 год; я жил на площади, Иванов плотнее запирался в своей студии, сердился на шум истории, не понимал его; я сердился на него за это. К тому же он был тогда под влиянием восторженного мистицизма и своего рода эстетического христианства. Тем не менее иногда вечером Иванов приходил ко мне из своей студии и всякий раз, наивно улыбаясь, заводил речь именно о тех предметах, в которых мы совершенно расходились.

“Восстань, светись (Иерусалим); ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою
И придут народы к свету твоему, и цари – к восходящему над тобою сиянию” (Ис. 60, 1, 3).
В Париже была провозглашена республика, престол папы покачнулся, вся Европа приподымалась, – я забыл Иванова и поскакал в Париж”.
Однако Иванов не был таким уж смиренным монахом от искусства, как обрисовал его Гоголь в своей статье. Может быть, не сразу, но события его расшевелили. Он сочувствовал воле итальянского народа к освобождению от австрийского господства, сочувствовал романтическому основателю “Молодой Италии” Мадзини, возглавившему кратковременную римскую республику. Знакомство и беседы с Герценом также оставили след в миросозерцании художника: мощный ум Герцена не мог не привлекать его, оттесняя влияние Гоголя. Помогало и присутствие младшего брата Сергея, настроенного достаточно радикально. Десятилетие спустя, уже после смерти художника, Сергей Иванов писал В. В. Стасову, отвечая на вопрос, не Гоголь ли содействовал замыслу библейских эскизов: “Могу вас уверить, что ошибаетесь сильно: этот переворот не Гоголь произвел, а 1848 год. Не забудьте, что мы с братом были в Риме личными свидетелями всего тогда происшедшего. Мы с ним читали в то время все печатавшееся, как в Риме, так и во французских газетах. В этом году все книгопродавцы римские доставляли очень дельные, до того строго запрещенные книги с необычайной скоростью и легкостью; мы же со своей стороны не спали. Гоголь же от 1848 года нисколько не переменился… Вспомните только то, что Гоголь все более и более впадал в биготство, а брат, напротив, все более и более освобождался и от того немногого, что нам прививает воспитание”.
Дальше С. Иванов сообщал о самом главном: “У брата была мысль, сделать в композициях всю жизнь и деяния Христа. Проектировалось исполнение всего живописью на стенах особо на то посвященного здания, разумеется не в церкви. Сюжеты располагались следующим образом. Главное и большое поле каждой стены должна была занимать картина или картины замечательнейшего происшествия из жизни Христа; сверху же ее или их (так сказать, по бордюру, хотя это слово не совсем тут верно) должны были быть представлены, но в гораздо меньшем размере, относящиеся к этому происшествию или наросшие на него впоследствии предания или сказания, или же сюжеты на те места Ветхого завета, в которых говорится о Мессии, или происшествия подобные, случившиеся в Ветхом завете и т. д. Эти композиции, наполняющие все альбомы и большую часть отдельных рисунков, рождались, набрасывались углем и потом отделывались – все одновременно, хотя все это происходило в продолжение восьми лет, то есть с 1849 года до начала 1858 года, года его поездки в Петербург и кончины”.

“Тогда Мария сказала: се, раба Господня, да будет мне по слову твоему. И отошел от нее Ангел” (Лк. 1, 38).
Значит, по достоверному свидетельству самого близкого человека, Александр Иванов начал работу над “храмом человечества” в 1849 году (а задумал еще раньше, как видно из “Мыслей при чтении Библии”) и мыслил ее как историю жизни и деяний Христа с привлечением “наросших” преданий и параллелей из Ветхого завета. Претерпел ли этот замысел существенные перемены после знакомства с книгой Давида Штрауса “Жизнь Иисуса”, которую Иванов прочитал не ранее конца 1851 года во французском переводе? По-видимому, нет: проект в своей основе остался тем же. Все эскизы, числом более двухсот (включая и завершенные в цвете листы, и наброски) исполнены на сюжеты Ветхого и Нового заветов, причем преобладают евангельские эпизоды – история Христа. Нельзя сомневаться, что все та же идея – “сделать в композициях всю жизнь и деяния Христа” – владела художником и в последний год его жизни, когда он привез наконец в Петербург свою большую картину. Стасов свидетельствовал: “Придя ко мне, в 1858 году, незадолго до смерти своей, в Публичную библиотеку, он меня просил показать ему все, какие мне только известны, достовернейшие и древнейшие изображения Христа на мозаиках, фресках и других монументах, – причем, скажу мимоходом, оказалось, что он уже давным-давно все существующее в этом роде знает лучше меня”.
Что же дала или подсказала Иванову книга Штрауса, которую он очень стремился заполучить, а получив, тщательно изучал?
Сначала несколько слов об этой книге. Ее автор – представитель так называемой либеральной теологии, ставившей задачу освободить Евангелие от легендарных наслоений, от метафизики, выявив реальное историческое зерно. Главным камнем преткновения здесь были сверхъестественные явления и чудеса, о которых повествуют евангелисты. Штраус в “Жизни Иисуса” полемизирует со своими предшественниками, пытавшимися найти естественное объяснение чудесам. Так, чудо хождения по водам они объясняли тем, что ученикам только показалось, будто Иисус идет по воде, а на самом деле он шел по кромке берега; преображение истолковывали как оптическое явление; воскрешение Лазаря – как пробуждение от летаргии и так далее. Подход Штрауса был более радикальный – он прямо утверждал вымышленность евангельских чудес. Много места в его книге занимают доказательства их невозможности. По его мнению, рассказы о сверхъестественных событиях жизни Иисуса возникли из мессианистских чаяний еврейской общины. Поэтому все они имеют прообразы в Ветхом завете, а также перекликаются с другими религиозными и мифологическими системами. В книге эти аналогии рассматриваются. Штраус впервые применил к христианской истории понятие миф, хотя в отличие от позднейшей мифологической школы не сомневался в реальном существовании Иисуса Христа.

“…и се, звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был Младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою” (Мф. 2, 9–10).
Иванова не могло не заинтересовать уже само название книги, “Жизнь Иисуса”, совпадавшее с его собственной темой. О книге этой, вышедшей первым изданием в 1835 году, много говорили, в папском Риме она была запрещена; художник надеялся почерпнуть в ней дополнительные знания о предмете. И действительно, приводимые Штраусом параллели с Ветхим заветом ему очень пригодились: ведь он и сам задумывал показать их в эскизах росписей, чтобы представить христианство как “результат всех верований”, но чувствовал себя недостаточно эрудированным. Тут он часто прямо следовал Штраусу, как доказано В. Зуммером на основании таблиц, где художник схематически намечал расположение композиций на стене. Например, в центре – “Искушение Христа”, а “по бордюру” – “Иегова искушает Давида”, “Змей искушает Еву”, “Ариман искушает первых людей”. Или вокруг “Благовещения” – “Три ангела у Авраама”, “Бог является родившемуся Моисею” и другие.
Экскурсы Штрауса в область языческих религий и митраизма также привлекли внимание Иванова: судя по таблицам, он намеревался ввести в росписи “Вознесение Геркулеса”, “Леду и лебедя”, некоторые другие античные мифы. Однако ни один из них не получил даже предварительной разработки. Все листы посвящены только библейским событиям: более всего – евангельским, меньше – ветхозаветным.

Преувеличивать влияние книги Штрауса на работу Александра Иванова не следует, и тем более трудно согласиться с выводом Зуммера, будто цикл Иванова ее иллюстрирует. Не говоря уже о том, что цикл был задуман и начат задолго до знакомства с книгой, а также о том, что пластические образы художника вообще несопоставимы с отвлеченными рассуждениями ученого, они иные и по смыслу. Потому что Иванов направляет усиленное внимание как раз на то, что Штрауса занимает только в отрицательном аспекте, – на атмосферу чудесного и таинственного, окутывающую евангельские повествования.
Если бы Иванов действительно следовал ходу мыслей Штрауса, подчинился логике его доказательств, он изобразил бы демифологизированную историю Христа, примерно так, как через несколько десятилетий сделал В. Д. Поленов в серии полотен о жизни Иисуса – очень поэтических, но лишенных элемента сверхъестественного. По такому пути шел французский историк и писатель Эрнест Ренан в широко известной книге “Жизнь Иисуса” (она вышла через несколько лет после смерти Александра Иванова). “Освобождал” от чудес историю Христа и Лев Толстой, по-своему переложивший Евангелие, – “евангелие от Льва”, как его в шутку называли. Но Иванов подходит совсем иначе, собственно, вразрез с позитивистскими течениями. Он представляет события в полном согласии с евангельскими текстами, где чудесное вплетено в ткань реального.
Сакраментальный вопрос, для Штрауса первостепенный: могли ли чудеса быть на самом деле? – для Иванова как художника словно бы не существует, он мыслит в иных категориях. Практически книга Штрауса послужила ему лишь путеводной нитью для отбора сюжетов, окружавших евангельскую основу. Однако чтение ее, а также и других книг, ранее запретных (может быть, среди них были и сочинения Фейербаха), несомненно, влияло на него, истребляя последние остатки догматического мышления. Так широко раздвинулись мыслительные горизонты, что померк замысел большой картины “Явление Мессии”, в которую он прежде думал вместить “смысл всего Евангелия”, – идеи духовного возрождения человечества. Ведь и сюжет “Сошествия во ад” внутренне аналогичен “Явлению Мессии” (не потому ли он его и выбрал?) – и там, и здесь является Христос-искупитель, неся грешному человеческому роду милосердие и надежду. Но где же путь, пройденный человечеством? где история?..

В письме 1855 года неизвестному адресату Иванов писал: “Мои труды: большая картина более и более понижается в глазах моих. Далеко ушли мы, живущие в 1855 г., в мыслях наших тем, что перед последними решениями учености литературной основная мысль моей картины совсем почти теряется… Вы, может быть, спросите: что ж я извлек из последних положений литературной учености? Тут я едва могу назваться слабым учеником, хоть и сделал несколько проб, как ее приспособить к нашему живописному делу”.
Под пробами художник разумел библейский эскизы, над которыми работал уже несколько лет с таким же полным страстным погружением, как раньше над большой картиной. Но никому, кроме брата, эскизы не показывал и мало кому о них говорил, а если говорил, то обиняками.
В 1857 году он поехал в Лондон, чтобы свидеться с Герценом и у него “зачерпнуть разъяснение мыслей моих”. Беседуя с Герценом и Огаревым, Иванов, по-видимому, больше слушал, чем говорил; об эскизах из жизни Христа упоминал только как о давнем намерении, умалчивая о том, что они уже наполовину сделаны. Из разговора с художником Герцен и Огарев вынесли одно: он разочарован в прежних идеалах искусства (религиозных?), ищет новых (каких?), но сомневается в своей способности их воплотить. Герцен в некрологе Иванову так передавал (по памяти) слова художника: “Я утратил ту религиозную веру, которая мне облегчала работу, жизнь, когда вы были в Риме… Я мучусь о том, что не могу формулировать искусством, не могу воплотить мое новое воззрение, а до старого касаться я считают преступным, – прибавил он с жаром. – Писать без веры религиозные картины – это безнравственно, это грешно; я не надивлюсь на французов и итальянцев: разбирая по камню католическую церковь, они наперехват пишут картины для ее стен. Этого я не могу, нет, никогда, никогда!”

Нет оснований не доверять свидетельству Герцена. И все же, не странно ли: Иванов с жаром утверждает, что утратил веру, что писать религиозные картины без веры преступно, – а в то же самое время с жаром работает над огромным циклом религиозных картин и продолжает эту работу, вернувшись из Лондона в Рим. Даже при том, что его собеседники о ней просто не знали, они должны были почувствовать противоречие в словах Иванова. Если Герцен в это противоречие не углублялся, приветствуя художника уже за его поиски новых идеалов, то Огарев не преминул указать на него в статье “Памяти художника”. Отказ Иванова от старой религиозной живописи, разочарование в собственной картине, но в то же время нежелание расстаться с библейскими сюжетами Огарев воспринял как вопиющую непоследовательность художника, которой он не намерен был уступать. “Да! это была лазейка глубокого отчаяния, – писал критик, – но не выход”.
Между тем Иванов занимался библейскими эскизами вовсе не с отчаяния, а вдохновенно и увлеченно. Что он к ним нисколько не остыл и в самый последний год жизни, ясно показывают строки из его письма В. П. Боткину, написанного из Петербурга всего за несколько недель до смерти: “…при первом случае тотчас же завернусь опять в ту улочку, в которой так спокойно зрели в продолжение 8-ми лет мои новые думы, и к олицетворению которых еще нужно по крайней мере года четыре римской жизни”.
В этих словах нет и следа смятенности и неуверенности, высказанных ранее в беседе с Герценом. Напротив: художник говорит о многолетнем спокойном созревании своих “новых дум” и намерен вернуться к их осуществлению как можно скорее. В петербургской художественной жизни конца 1850-х годов он не нашел ничего, что могло бы их обесценить или предложить взамен новые идеалы. А то, что предлагалось: обращение к жанровой живописи, – было ему чуждо. В том же письме он писал: “Tableaux de genre в России есть совершенное разрушение наших лучших сил, и яснее: размен всех сил на мелочи и вздоры”.

Особое мнение о “вопиющей непоследовательности” Иванова сложилось у Стасова, который встречался с ним в том же 1858 году, а вскоре после его смерти имел возможность познакомиться с библейскими эскизами (они привели его в восторг), переписывался с Сергеем Ивановым, вообще знал о последних трудах художника больше, чем другие собеседники и критики. Как известно, Стасов был горячим пропагандистом искусства, отражающего современную жизнь, и ему хотелось найти у позднего Иванова хоть какие-нибудь шаги в этом направлении, хоть какой-нибудь отход от религиозной темы. Не найдя ничего подобного, Стасов честно сделал вывод, что Иванов вовсе не терял религиозную веру. Он, по словам Стасова, “оставался религиозным и благочестивым даже в последние годы своей жизни, когда вдруг вообразил про себя, что перестал “верить” и “быть религиозным”. Он говорил и думал одно, а, судя по всем его делам, предприятиям, планам и намерениям, выходило совсем другое. Даже в последние дни жизни он только об одном и мечтал: поехать в Палестину и писать жизнь Христа”. В свойственной Стасову энергичной манере, он заключал: “В чем же, спрашивается, состоял бы тот переворот в искусстве, который проповедовал Иванов? Он явно сводился к нулю”.
У Иванова и Стасова были разные понятия о “перевороте” и “новом пути” в искусстве. Иванов видел его не в отказе от религиозной темы, но в ее новом осмыслении и наполнении – масштабном, философическом и одновременно строго историческом, связанном с “живым воскрешением древности”. Он полагал, что это несовместимо с живописью культовой, церковной, и потому задуманные им циклы картин должны были помещаться отнюдь не в церкви. По той же причине он негодовал на итальянских художников, которые, “разбирая по камню католическую церковь”, получают у нее заказы на роспись церковных стен.
Однако, беседуя с Герценом и Огаревым, художник говорил не только о внецерковности своей работы, но и о том, что “утратил веру”. Если так, значит, он действительно находился в жестоком разладе с самим собой. Можно ли было в таком состоянии духа создавать гармонический библейский цикл? Ведь Александр Иванов был не из тех, кто мог творить вопреки убеждениям.

При воскресении же Моем предварю вас в Галилее. Петр сказал Ему в ответ: если и все соблазнятся о Тебе, я никогда не соблазнюсь. Иисус сказал ему: истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня. Говорит Ему Петр: хотя бы надлежало мне и умереть с Тобою, не отрекусь от Тебя. Подобное говорили и все ученики” (Мф. 26, 31–35).
Однажды А. П. Чехов высказал такую мысль: “Между “есть Бог” и “нет Бога” лежит целое громадное поле, которое проходит с большим трудом истинный мудрец. Русский человек знает какую-либо одну из этих двух крайностей, середина же между ними не интересует его; и потому обыкновенно он не знает ничего или очень мало”. Русский человек Александр Иванов по условиям времени, среды, воспитания приучен был к четкой бинарной формуле: “верую” – “не верую”, середины не дано. (Хотя в Евангелии есть знаменательные слова: “Верую, Господи, помоги неверию моему”.) Но обладая ищущим умом, хотел знать много и, отдаляясь в умственных поисках от одной крайней точки, временами готов был считать себя оказавшимся в другой крайности, исключающей веру, что приводило его в смятение. Уже одно то, что он подходил к христианству аналитически, не противоречило ли вере отцов? Он мог так думать, так “вообразить про себя”, по выражению Стасова.
По-видимому, все обстояло сложнее: религиозное миросозерцание Иванова эволюционировало, но не разрушалось. Он расставался не с верой, а с той крайней конфессиональной традицией, которая не допускает отступлений от догмы, от буквы, нетерпима к инакомыслию, страшится ересей, отбрасывает легенды и мифы как почву для ересей. Словом, Иванов освобождался от того, что его брат называл биготством. И это совершилось не внезапно, не вдруг. Он и в прежние годы, работая над “Явлением Мессии”, предавался рефлексии, которая уже по определению несовместима с верой нерассуждающей, слепой. “Разъяснения своих мыслей” он постоянно искал у тех, кого считал мудрее себя, – у Рожалина и Овербека, у Гоголя, у Штрауса и Мадзини, у Герцена и Чернышевского. В конечном счете надежнейшим проводником оставалась его художественная интуиция: в работе он ей доверялся и обретал спокойную цельность, которой недоставало его умозрениям.

Располагая библейские композиции на стенах воображаемого здания в соответствии с книгой Штрауса, Иванов как бы подтверждал тезис о мифологическом элементе в христианстве (что также могло представляться ему отходом от веры). Но, по существу, в своем понимании мифологии оставался ближе Шеллингу, чем Штраусу. Для рационалиста Штрауса миф – то, чего не могло быть, небылица. Для Шеллинга первичный принцип – тождество идеального и реального, изначально заложенное в мироздании и предстающее в смыслообразах мифологии как подлинная вселенная. Мифология, по Шеллингу, есть первоначальное и необходимое условие всякого искусства. Вырастая из мифологии, искусство творит духовную реальность, равноправную с материальной.
Исключительно рационалистический взгляд на мир несовместим с религией – религия метафизична. Он плохо уживается и с искусством: последовательно проведенный рационализм логически вынуждает признать создания творческого воображения чистой фикцией, в лучшем случае – аллегорией. Философия тождества Шеллинга для рационалистически настроенного ума представляется весьма туманной, но художественной деятельности она родственна, так как снимает жесткую преграду между сущим и идеальным. “Она всюду видит единую творимую жизнь”. И напротив, рационалистическая концепция Штрауса такова, что “формулировать искусством” ее положения нельзя без ущерба для искусства, в чем и признавался Иванов Герцену.

“Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и в Самарии и даже до края земли. Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо” (Деян. 1, 8–11)
Вплоть до настоящего времени миф, мифотворчество, мифология понимаются далеко не однозначно. В зависимости от общей мировоззренческой установки существуют различные точки зрения на соотношение мифологии и религии, мифологии и истории, мифологии и фантастики. Проблема осложняется разнохарактерностью явлений, относимых к категории мифов – от космогонических сказаний первобытных народов до мифов-обманов, творимых, так сказать, на глазах в современном обществе. Отношение мифа к истине также варьируется в широком диапазоне: от шеллингианского понимания мифа как высшей истины до позитивист-ского – как искажения истины, проистекающего из наивности донаучного мышления. Последнего мнения теперь придерживается мало кто из серьезных ученых. Символический язык мифа присущ, по-видимому, человеческому мышлению постольку, поскольку оно способно подниматься над чистой эмпирикой.
Александр Мень пишет: “Миф в философском смысле слова есть неизбежная форма для выражения сверхрассудочных истин. Каждое мировоззрение подразумевает некие аксиомы или постулаты, которые являются мифическими, и, следовательно, по-настоящему демифологизировать человеческое сознание невозможно”.
Очевидно, нельзя полностью демифологизировать и историю. В дымке мифа предстает каждое большое событие прошлого; чем дальше в глубь времен, тем более размыты границы между мифом и историческим фактом, причем, как говорит русский писатель Борис Зайцев, “миф лучше чувствует душу события, чем чиновник исторической науки”.
Особенность подхода Александра Иванова к библейской истории в том, что он, стремясь к исторической достоверности, к “живому воскрешению древнего мира” со всеми “точностями антикварскими”, доступными современной науке, не отбрасывал мистический и мифологический элемент как недостоверный, но трактовал его как духовную реальность бытия.
* * *
Художник рассчитывал еще по крайней мере на четыре года, чтобы завершить весь цикл, где, напомню, предполагалось около 500 композиций. Этих четырех лет судьба ему не отпустила. В Петербурге он заразился холерой и умер.
В том, что он успел сделать, наряду с большими отделанными акварельными листами множество предварительных проб, схематических наметок, беглых набросков в альбомах. Весь этот богатейший материал еще ждет своего исследователя. Есть своеобразное очарование в нон финито великого мастера: даже просто проглядывая черновики, зритель в какой-то мере приобщается к процессу творчества. Даже относительно законченные композиции не всегда являются окончательными: в большинстве случаев художник разрабатывает несколько вариантов одного сюжета – это позволяет угадывать внутреннюю логику его поисков.
Александра Иванова было принято считать художником одной картины, а между тем он был создателем сотен картин. В долгой работе над “Явлением Мессии” целый мир образов созревал в сознании, откладывался в памяти, – образовался избыток художественных идей, требовавших выхода. И вот рождаются одна за другой композиции, не повторяющие одна другую. Предварительные наброски к ним – это творческие, а не технические штудии. (Исключение составляют только вычерченные в альбомах детали архитектуры, скопированные из увражей по искусству Древнего Востока.) Как мастер Иванов чувствовал себя как никогда уверенно, уже не нуждаясь в том, чтобы тщательно штудировать анатомию, ракурсы, драпировки. Его рука приобрела ту чудесную верность, когда технические трудности перестают существовать и художник без напряжения переносит на бумагу образы, встающие перед мысленным взором, – недаром в библейских эскизах находили нечто визионерское: словно бы мгновенно запечатленные видения.

“Нет уже иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского; ибо все вы одно во Христе Иисусе” (Гал. 3, 28).
По сравнению с “Явлением Мессии” Иванов как живописец становится в библейских эскизах иным. Остережемся сказать “выше”, “лучше” – его огромный холст со всеми этюдами остается бесспорным шедевром, принижать значение шедевра бессмысленно. Но в библейском цикле дар художника раскрывается новой гранью: великий пластик, извлекший из классицистической школы все, что она могла дать, теперь совершает прорыв к новым живописным ценностям. Он пожинает плоды многолетнего опыта работы на природе, проникновения в тайны цвета, света, воздуха, пространства. Это сказалось в поздних масляных этюдах обнаженных мальчиков, но еще более – в акварельной живописи. С трудом верится, что Иванов впервые начал работать в этой технике только в 40-х годах и за сравнительно короткое время достиг в ней такого артистизма. Его акварели воздушны, светоносны, дышат какой-то особенной свежестью. Во времена Иванова работали многие превосходные акварелисты, в том числе Карл и Александр Брюлловы. В уровень с ними стоят ранние акварели Иванова – его “жанры”, но в библейских эскизах он пошел дальше: в вариативности, смелости, легкости акварельного приема у него нет равных. Тонкая прорисованность соединяется с живописной обобщенностью. Стадии рисунка и расцветки не разделены: как правило, Иванов не делал предварительного рисунка карандашом, а рисовал цветные контуры тонкой кисточкой и погружал фигуры в среду мягкими тающими пятнами краски. Лишь изредка встречаются рецидивы академической манеры – в условном повороте фигуры или в жесткости красочных сочетаний. За очень немногими исключениями в акварелях Иванова отсутствует плотная густая окраска: цвет зыблется, фосфоресцирует, свет пронизывает человеческие фигуры, становящиеся полупрозрачными, как бы слегка размытыми, не утрачивая при этом рафаэлевской благородной ясности очертаний.
Вероятно, не стоит жалеть о том, что эскизы не были претворены в большие картины маслом, как художник замышлял, а остались в акварельных листах. Перевод в масло их отяжелил бы и огрубил. Прозрачность, трепетность акварели, легкая эскизная недоговоренность тут уместнее – это как бы дымка времени, сквозь которую видятся образы легендарного прошлого.
Не слишком много теряем мы и от того, что Иванов не успел до конца разработать общую композицию своего “храма человечества”, то есть систему расположения картин на стенах. Это расположение сюжетов “по Штраусу” отдает рассудочностью, в общем-то чуждой Иванову. Органического художественного, ансамблевого единства, каким отличаются старинные храмовые росписи, здесь получиться не могло, тем более что и сам Иванов, художник новейшего времени, все же был мастером станковой, а не монументальной живописи. По существу, каждая его композиция самоценна, замкнута в себе, а связь между ними, намечаемая в таблицах, довольно условна и необязательна. Вполне допустимо рассматривать его листы по отдельности, как последовательные звенья библейской истории, отвлекаясь от штраусовских параллелей и аналогий. Весь цикл при этом естественно разделяется на ветхозаветную и новозаветную истории.
И та, и другая иллюстрировалась на протяжении веков многократно, в том числе художниками XIX столетия. Но, кажется, никому не удавалось сделать то, что смог Александр Иванов: соединить реализм с духом Библии, представить историю и миф, реальное и чудесное как бы в изначальном синтезе.
Есть некоторые различия в интерпретации Ивановым Ветхого и Нового заветов, прежде всего в изображении чудес. М. М. Алленов замечает: “Чудесные явления, как они даны в библейских эскизах, вовсе не стоят над бытом и повседневностью, не противоречат этому быту, а сосуществуют с самыми что ни на есть простыми и будничными делами и вещами… мир обычный и мир сверхъестественный принципиально не разграничены, чудо неотделимо от повседневной действительности и ожидается в любую минуту”. Тонкое наблюдение, но оно справедливо только по отношению к ветхозаветным сценам, не к евангельским. В последних повседневное и трансцендентное разграничены больше: чудеса изображаются как нечто необыкновенное, вторгающееся в нормальную жизнь и нарушающее ее привычный ход. Они сопровождаются потоками нездешнего света, сдвигами пространства; люди, пораженные, не знают, видят ли они это наяву или во сне. Ведь это люди уже новой эры, их склад ума, их менталитет не столь далек от нашего. Другое дело во времена седой древности, когда, согласно библейским преданиям, участие небесных сил в жизни пастушеских племен проявлялось постоянно и непосредственно: ангелы сходили на землю и брали в жены дочерей человеческих, патриархи и пророки получали от Бога руководительные указания, Бог сам шел перед войском в виде огненного столпа или облака. В представлении той среды чудеса столь же реальны, как повседневные события. Иллюстрируя Ветхий завет, Иванов действительно показывает чудеса вплетенными в быт. Величие и простодушие – вот основной тон его пластических повествований об Аврааме, Иакове, Моисее, Илии.
Иванов избегает трактовать ветхозаветные сюжеты в свете их позднейших толкований богословами, не ищет в них аллегорического значения. Его занимает другое: приникнуть к истокам, услышать “звук умолкнувшей речи” древних народов. Но он все время помнит, что в словах и деяниях ветхозаветных пророков предвозвещался приход Мессии, подготовлялось христианство с его проповедью любви. Он смягчает жесткие черты библейской истории: Бог карающий и грозный, Бог – мститель, “огонь испепеляющий”, не находит отражения в библейских эскизах. (Надо заметить, что Иванов вообще не любил и избегал сюжетов, связанных с разрушительными катаклизмами, к которым тяготел Брюллов.) Пафос ивановского ветхозаветного цикла можно было бы передать словами Томаса Манна (из предисловия к роману “Иосиф и его братья”) о “присущей Ветхому завету идее союза между Богом и человеком, то есть мысли о том, что Богу не обойтись без человека, человеку – без Бога и что стремления того и другого к высшим целям переплетаются между собой”. Это согласуется и с записями Иванова, где он говорит, что человек не может изобразить божество иначе как через призму высоких человеческих качеств.
Ветхозаветный цикл Иванова начинается, не считая протобиблейских эскизов о сотворении мира, с легендарного прародителя Авраама. Знаменитую сцену явления Аврааму трех путников художник решает почти как идиллическую пастораль. (9) В жаркий солнечный день Авраам гостеприимно принимает странников; один из них старик, два другие молоды; они расположились за трапезой под сенью дуба в самых непринужденных позах. Из шатра выходит жена хозяина Сарра, и старший гость, обращаясь к ней, говорит, что скоро у нее родится сын. Авраам удивлен – ведь он и Сарра бездетны и стары; но, может быть, гость просто хотел сказать приятное хозяйке? Нет никакого намека на позднейшее отождествление странников с Пресвятой Троицей христиан: Авраам ведь не мог ничего об этом знать. Кажется, он даже еще не догадывается об ангельской природе своих гостей. (Сравним этот лист с “Ангел поражает Захарию немотой”(1) евангельского цикла, близким по мотиву: там все необыкновенно и торжественно, а здесь – бесхитростно.)
Другая, тоже “бытовая” сцена: пожилая Сарра, и улыбаясь, и досадливо морщась, кормит грудью новорожденного Исаака. Согбенный Авраам задумчиво смотрит на сына, очевидно, вспоминая визит троих незнакомцев и приходя к мысли, что то были не простые странники.
Но вот кульминация истории Авраама – “Призвание Авраама”. (8) Два величественных старца, почти одного роста, стоят на вершине на фоне расстилающегося внизу ландшафта. Они заключают завет – священный договор между Богом и человеком. Саваоф распростирает руки, как бы охватывая этим широким жестом пространства, предназначенные во владение потомкам Авраама. Авраам прикладывает руку к сердцу и склоняет голову, но в его жесте нет подобострастия, он исполнен достоинства. (В одном из предварительных рисунков художник изобразил Авраама “павшим на лицо свое” перед Саваофом, но в окончательном варианте от этого отказался.) В ответ на доверие к нему Бога Авраам отвечает безграничным доверием: это показано в рисунке “Жертвоприношение Авраама”, где он без колебаний готов принести в жертву своего сына. Ангел указывает на овна: доверие человека Богу подверглось самому трудному испытанию и выдержало его; отныне и навсегда человеческие жертвы отменены.
В листе “Борьба Иакова с Богом”(10) – снова равноправная встреча-поединок божественного и человеческого. Они не столько борются, сколько познают друг друга прикосновениями, как будто преодолевая невидимую преграду.
Вся группа рисунков, относящихся к Книге Бытия, выдержана в тоне спокойного эпического рассказа – еще не об истории, но о предыстории народов Израиля. Здесь даны только простые и древние пласты человеческого бытия: шатры кочевников, стада, рождение и смерть, юность и старость, мужчина и женщина. Все это художник показывает обобщенно и крупно, не индивидуализируя, не вдаваясь в детали. По-иному он подходит к иллюстрированию второй книги Пятикнижия – “Исход”, связанной с деяниями Моисея, возглавившего исход евреев из Египта. Это событие историки относят к эпохе Размзеса II, к ХIII веку до н. э., его отделяет от легендарных времен Авраама не менее шести столетий. Теперь исторический колорит сгущается: Иванов вносит в свои композиции приметы конкретного времени, основываясь на данных археологии, на изучении египет-ских памятников. С большим художественным тактом он привносит элементы древнеегипетского стиля – чеканные ритмы, своеобразные развороты фигур. Детально проработанная акварель “Фараон просит Моисея вывести евреев из Египта”(11) смотрится как настоящая историческая картина. Интерьер дворца фараона представлен со всеми “точностями антикварскими”, стволы и капители колонн покрыты типичным египетским орнаментом. Фараон, спускаясь по ступеням, горестно закрывает лицо рукой, его подданные также охвачены отчаянием от постигших страну бедствий – одни заламывают руки, другие простирают руки к Моисею и Аарону, некоторые падают на колени и склоняются до земли. В их бурной, но ритмической, как бы ритуальной жестикуляции узнается экспрессия “плакальщиков” древнеегипетских рельефов.
Не то замечательно, что русский художник, воспитанник академии, смог оценить художественный язык памятников, столь далеких от академических традиций, а то, что как органично он вводит элементы этого языка в контекст современного решения многофигурной композиции. В пространственном, перспективно построенном интерьере “плакальщики” не выглядят чужеродными. Как удавалось Иванову соединить в непротиворечивое художественное целое далекие стилевые принципы? Им двигало не стремление к стилизации: он хотел через призму стиля понять, каким был мир древних художников. Это его испытанный метод, применяемый еще в работе над этюдами к “Явлению Мессии”: “согласить творчество старых мастеров с натурой”. Глядел ли он на античные мраморы, на полотна ренессансных художников или на египетские рельефы – он мысленным взором созерцал их жизненный первоисточник, их “натуру”.
В листе “Поклонение золотому тельцу”(15) группа пляшущих очень похожа на древнеегипетские изображения танцоров: плечи в фас, лица в профиль, такие же движения рук. В альбомах Иванова имеются заготовки – танцующие фигуры, срисованные с атласа по египетскому искусству. Интересно, что скопированы они не совсем точно, но заметно снижены: в позах придворных танцовщиц есть что-то напоминающее пляску подгулявших простолюдинов. Так это и вошло в композицию “Поклонение золотому тельцу”: беженцы в отсутствие Моисея воздвигли языческий золотой кумир и предаются разгулу. Пляшут, бьют в бубны, пьют; какой-то упившийся голый старик заснул, лежа на животе; есть тут и довольно недвусмысленная сцена пьяного соития.
Скитаниям израильтян в пустыне посвящены многие листы: сбор манны, ловля перепелов (13), поиски воды, медный змий – все в нескольких вариантах. Видимо, художника увлекала задача показать бедствия и неразумие толпы. Люди суетятся, мечутся, ползают по земле, жадно загребая пищу, согласия между ними не видно. Массовая психология людей, которые долго были рабами и теперь могут только взывать к вождю, роптать и чаять манны небесной (что и побудило Моисея водить их по пустыне до тех пор, пока не вырастет новое поколение – не знавшее рабства), – многозначительная тема, не устаревшая за века.
Особый лист – Моисей на горе Синайской перед Ягве, пишущим заповеди на скрижалях. (14) Если Авраам стоял перед Богом лицом к лицу, почти как равный, то здесь несколько иное решение. Ягве, чей лик не дано видеть никому, является Моисею “в облаке”, как некая призрачная статуя. Он восседает на пьедестале, охраняемом керубами (крылатыми грифонами с телом льва и головой человека). Моисей стоит с опущенной головой, внимая словам Бога, но не дерзая поднять на него глаза. Дистанция между ними подчеркнута манерой рисунка, бесплотно-контурного в изображении Ягве и объемного в фигуре Моисея.
Обращаясь к иллюстрированию Книги Царств, Александр Иванов усиливает черты быта и психологии, индивидуализирует образы героев: мудрого судии Самуила, порывистого и необузданного царя Саула, юного пастуха и песнопевца Давида, призванного покинуть свои мирные стада и помазанного Самуилом на царство. С особенным чувством изображена в серии эпизодов история пророка Илии – это нищенствующего анахорета, одинокого борца против языческого культа Ваала, введенного неправедным царем Ахавом. Хотя Илия в фольклорной традиции сближался с древним громовержцем Перуном, Иванов рисует его кротким и незлобивым – ведь именно Илии было впервые открыто, что Господь приходит не в грозе и буре, но в “веянии тихого ветра”. Сюжет состязания Илии со жрецами Ваала у Иванова отсутствует, главное внимание уделено эпизодам встречи с бедной сарептской вдовой и воскрешения ее умершего мальчика. Казалось бы, для реализации общего замысла библейских эскизов не было нужды рассказывать эту историю так подробно, но художник выбирал те сюжеты, которые ему были особенно дороги и интересны, – совсем не только “по Штраусу”. В Библии о сарептской вдове говорится коротко, однако Иванов посвящает ей целую серию рисунков, грациозных и нежных, – создает как бы самостоятельную лирическую новеллу о сочувствии и помощи друг другу бедных одиноких людей. Чудо воскрешения совершается без всяких громов и молний, выглядит актом милосердия и веры. Вот Илия молится над распростертым телом ребенка, призывая Всевышнего воззреть и сжалиться: видно, что он вкладывает в мольбу все свои душевные силы. Потом приникает к лицу ребенка, стараясь вернуть ему дыхание. И в заключительном рисунке возвращает живого мальчика матери.
Прекрасны листы, изображающие Илию в пустыне. (18) Вот он сидит, одинокий и смертельно усталый, среди голых скал, прося у Бога смерти: “довольно уже, Господи: возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих” (3 кн. Царств, 19). На другом листе к нему является ангел, приносит ему пищу: “встань, ешь и пей, ибо дальняя дорога перед тобою”. (19) Показано, как с трудом опоминается старец от тяжелого забытья: он не в силах поднять голову и неуверенными, нащупывающими движениями ищет на что опереться, чтобы встать. Ангел же исполнен сострадания, он заботливо склоняется над стариком, указывая на котелок с едой. Кажется, что в таких сценах, максимально приближая их к естественным человеческим переживаниям, художник искал выразить одну из своих заветных идей: укрепить падшего духом, дать надежду отчаявшемуся.
Однако “жанровости” он не допускает, строго выдерживает возвышенный эпический тон. Как аналог напевному библейскому ладу, он сообщает плавность и благородство движениям и жестам, уравновешенность композициям. В этом отношении Иванов остается верен заветам Высокого Возрождения, Рафаэля и Леонардо. Посмотрим на рисунок с изображением матери Самуила (во исполнение данного ею обета она посвящает Богу своего первенца). Простая композиция из нескольких фигур исполнена такого величавого этоса, какой является достоянием классических эпох искусства. При этом ни следа нарочитости и ходульности, свойственных ложноклассическим перепевам старинных образцов. Ничего, напоминающего инсценировку. Иванов действительно дышит воздухом древнего эпоса, действительно переносится в мир Библии.
Эффект подлинности и соприсутствия нарастает в новозаветном цикле. Здесь картина мира изменяется, становясь взволнованной, динамичной; здесь широко раздвигается пространство, перспективные планы уводят вглубь, своды огромного Соломонова храма тонут в вышине, появляются многолюдные толпы – рыбаков, мытарей, фарисеев, бедняков, женщин, детей. И среди них – загадочный проповедник в темно-синем плаще, как магнитом притягивающий эти людские скопища. Порой кажется, что художник сам бродил под жгучим палестинским солнцем вслед за пестрой толпой, прислушиваясь к волнующим речам проповедника.
Для каждого события из жизни Христа Иванов делал по нескольку вариантов, варьируя композицию, цвет, испытывая все средства своего богатого художественного арсенала – линию, пятно, светотень, перспективные ракурсы, эффекты освещения.
С особенным вдохновением он писал сцены чудес – эти прорывы в бесконечное, эти маяки светлой надежды на трудном пути людей. Он находит для них необыкновенный художественный язык. Один из лучших эскизов – “Ангел поражает Захарию немотой” (1)(ангел возвещает священнику Захарии о грядущем рождении у него сына, будущего Иоанна Предтечи; старый Захария не может поверить, и ангел поражает его за неверие немотой). Штраус в своей книге не уделяет большого внимания этому эпизоду, ограничивается тем, что отмечает его эпигонский характер по отношению к Ветхому завету. Но Иванов посвящает ему великолепный лист. Быть может, художника захватила тема сомнения и веры, внутренне ему близкая: сомнение сковывает уста, вера освобождает. Сомневающийся Захария умудрен опытом, стар, спина его сгорблена, божественный вестник могуч и молод, у него прямая величественная фигура, сильные раздвоенные крыла, как у ассирийских божеств. Его жест властен и непреложен. Эта замечательная акварель – настоящая поэма света, бледно-золотого, белого, голубоватого. В волнах сияния, исходящих от архангела, сливающихся со струящимся светом семисвечника, утопают своды, растворяются предметы храмовой утвари. Нет отчетливых очертаний, контуры слегка двоятся – но это не от незаконченности (лист принадлежит к наиболее завершенным): под кистью художника непроницаемая материя вещества как бы изменила свою природу, став трепетной материей света.
В “световом” ключе Иванов пишет и “Благовещение”. (22) В мировом искусстве произведения на этот сюжет неисчислимы, некоторые из них Иванов зарисовывал (например, “Благовещение” Симона Мартини, утонченного сиенского мастера XIV в.), но никого не повторил. Благовещение он представляет в двух различных композициях – по Евангелию от Луки (ангел возвещает Марии о рождении Спасителя) и по Евангелию от Матфея (ангел является Иосифу во сне и говорит ему: “Не отвергай Марию”). Мотив волшебного света присутствует везде: сияние исходит из лона Марии, образуя круг с расходящимися лучами. В вариациях сюжета по Луке фигуры ангела и Марии разномасштабны: рядом с благовестителем Мария миниатюрна – женщина-дитя, но архангел Гавриил (тот же, что являлся Захарии) не повелевает ею, но благословляет. Она же принимает весть Гавриила без тени сомнения или испуга, с непоколебимым доверием. Тихая и стойкая, скромная и твердая – такой ее рисует художник и в прелестной сцене встречи с Елизаветой (24), и в трагической “Голгофе”(39).
Один из шедевров библейской серии – “Благовещение по Матфею”. Композиция совершенно оригинальна, не имеет прообразов. Мария мирно спит на своем бедном ложе, идущие от нее лучи волшебно преображают убогую комнату; пронизанная ими, появляется перед полуспящим в углу Иосифом прозрачная и призрачная фигура бледно-голубого ангела. Он указывает на Марию. Ложе Марии – в глубине комнаты, но благодаря его яркому свечению оно как бы выступает вперед, приподнимается и парит в пространстве. Реальность ощущается чудом, чудо – реальностью. В другом варианте ангел подводит Марию за руку к Иосифу; здесь фигура ангела отбрасывает огромную тень на стену. Мотив больших падающих теней, создающих впечатление фантастическое, Иванов использовал не раз.
Мы найдем разнообразные и удивительные световые фантасмагории в таких сюжетах, как “Преображение”, “Вознесение”(41), “Ангел возвещает женам-мироносицам о воскресении Христа”, “Явление воскресшего Христа ученикам”. Мандорлы, нимбы, молнии, радуги образуют магическую световую стихию, особую космическую среду, где невозможное становится возможным. Но лишь изредка Иванов позволяет себе прямое нарушение законов перспективы, оптических законов. На эту смелость он отваживается в акварели “Ангел благовествует пастухам о рождении Христа”(25). Белый силуэт ангела с распластанными крыльями, внезапно возникающий в воздухе над ошеломленными пастухами, никак не связан с пространственным, уходящим в глубину вечерним ланд-шафтом, с облаками, тенями и предметами земли: он, кажется, принадлежит какому-то иному измерению, фрагмент которого вдруг стал видим.
Рисуя чудесные явления, Александр Иванов создает атмосферу мистическую, не допускает будничных приземленных мотивов, избегает даже таких житейских подробностей, какие встречаются в иконах, например присутствие служанки в сцене Благовещения. Зато в композициях собственно исторических, посвященных земным деяниям Христа, он нисколько не пренебрегает бытовыми реалиями: тут он становится реалистом в большей мере, чем когда писал “Явление Мессии”(27). Это можно почувствовать, сравнивая ту большую картину с многочисленными библейскими эскизами на сходный сюжет – проповеди Иоанна Крестителя (27) и Креститель, указывающий людям на Иисуса (28). Здесь художник перепробовал всевозможные способы расположения фигур, а в некоторых эскизах возвращался к общей композиционной схеме “Явления Мессии” (лишнее подтверждение тому, что он не отрекался от своей большой картины). Но и сам Креститель, и паломники приближены к исторической достоверности. Креститель теперь лишен классической красоты – это диковатого вида аскет в короткой препоясанной власянице, волосы у него косматы и всклокочены, жесты порывисты. И уж конечно в руках у него нет креста, ставшего священным символом лишь после Голгофы. Среди внимающих “голосу вопиющего в пустыне” преобладают люди бедные и простые, больше всего здесь длиннобородых старцев, которых томит груз прегрешений, скопившихся за долгую жизнь. Они сидят, опустив голову в колени, вид у них удрученный – ведь неистовый пророк предсказывает “великий будущий гнев”. Те, кто помоложе, не так устрашены словами проповедника, некоторые пользуются случаем, чтобы вымыть голову в чистой воде Иордана – занятная подробность, повторяющаяся в нескольких композициях. Когда Иоанн указывает на Иисуса, чей тонкий силуэт появляется вдали, на вершине холма, люди возбуждены, заинтересованы, но еще ничто не говорит об их начавшемся обращении к вере в Христа. Им еще только предстоит слушать его притчи, внимать его слову, присутствовать при чудесных исцелениях, которые он совершит.
Этому посвящены десятки композиций. Христос проповедует в Соломоновом храме (32), на горе, на лодке, исцеляет больных и изгоняет торгующих из храма, произносит слова осуждения “Иерусалиму, избивающему пророков”(35), садится за трапезу с бедняками, призывает к себе детей, обличает лицемерие фарисеев. За ним следуют его ученики, ему внимают народные толпы; фарисеи и священники задумывают расправу с диковинным проповедником, но исходящая от него неодолимая духовная сила парализует их попытки. Возбужденную, накаленную атмосферу этих сцен удачно характеризует М. М. Алленов: “Евангельские сцены Иванова овеяны духом дискуссий и словопрений. Люди здесь прислушиваются, вопрошают, удивляются, негодуют и жаждут немедленной справедливости”. Алленов выделяет из всего множества листов акварель, названную “Проповедующего в притчах Христа хотят схватить первосвященники и фарисеи”(33). Здесь Иисус спокойно стоит перед своими недругами, заграждающими ему вход в храм, а за его спиной, на площади до самого горизонта – несметные толпы: зримый символ народов мира, которые в будущем примут учение Христа.
Достойны удивления разнообразие и смелость композиционных решений. В зависимости от образной задачи художник избирает угол зрения снизу или с высоты, сопоставляет дальние и ближние планы, дает неожиданные диагональные срезы, располагает большие массы людей то кругами, то волнами, то радиально. Архитектурные мотивы – колоннады храма Соломона, его пристройки, портики, решетки, лестницы – не остаются лишь статичной обстановкой, а вовлекаются в действие, организуют его. Эксперименты с пространством в эскизах Иванова предвосхищают многое, что составляло предмет специальных поисков для более поздних художественных течений.
Национальная характерность – вот что еще является несомненным новаторством Иванова как исторического живописца. Кажется, никто до него не рисковал сообщать национальный колорит евангельским событиям: это должно было представляться чем-то кощунственным. По поводу “Явления Мессии” враждебные Иванову академические критики с возмущением говорили, что он представил на своей картине “семейство Ротшильдов”. В библейских эскизах черты семитического типа еще более очевидны, характерные позы и жесты изучены художником в синагогах, которые он усердно посещал. Он находил в них несравненную выразительность, силу чувства: руки заломленные, простертые, поднятые над головой; “падение на лицо”, лицо, опущенное в колени, – выражение мольбы, тоски, раздумья, раскаяния, надежды… Вне этой национально окрашенной пластической стихии Иванов не мыслил евангельский цикл. Посмотрим на лист “Немой Захария перед народом”(23) – на жест Захарии и на головы слушателей внизу; на рисунок скорбящего Петра – склонение его головы и положение рук; наконец, на “Разряженных женщин”(20), которые “ходят, обольщая взорами”. Последний лист стоит в библейской серии особняком, выделяясь своей “жанровостью”, остротой бытовых психологических характеристик, тонким юмором, с каким написаны красавицы – щеголихи и переглядывающиеся за их спиной молодые люди. При всем неодобрении бытового жанра как самостоятельного и тем более главного рода живописи Иванов мог быть при желании отличным жанристом – там, где находил это уместным. Но в умеренных дозах. Элементы жанровости не должны были мельчить высокий смысл событий, им надлежало оставаться побочными. Как ни уважал Иванов Овербека, ему очень не нравилось, когда тот изображал маленького Иисуса, работающего пилой. “В пору тому, что “Христос метет стружки из-под Иосифова столярного станка”. Нельзя, нельзя так вольничать, да и зачем?”
Свой дар проникновения в психологию личности, индивидуальную психологию, Александр Иванов также несколько приглушает в библейских эскизах по сравнению с “Явлением Мессии” – приглушает, но не отказывается. М. Алленов в своем исследовании пишет, что в библейских эскизах “действует стихия, толпа, человеческий род, руководимый инстинктом вдохновения, коллективная психология преобладает над психологией индивидуальной. Чрезвычайно знаменательно в этом смысле, что при создании позднего библейского цикла работа велась исключительно над иконографией сюжетов и общими очерками композиций, понятными в целом как зрелище, из которого не выделялись лица”. Это только отчасти верно. Конечно, в каждой из нескольких сотен библейских композиций не было и не могло быть такого же скрупулезного распределения психологических ролей и такого же разнообразия лиц, как в большой картине, которая мыслилась художником как единственная. Имело значение и то простое обстоятельство, что в эскизах маленького размера вообще невозможно прорисовывать отдельные лица. Но это еще не значит, что Иванов считал ненужной их индивидуализацию, – она должна была выявиться сильнее при переводе акварельных эскизов в монументальные картины, но и в эскизах намечена с достаточной определенностью, особенно в новозаветном цикле. И особенно по отношению к тем персонажам, которые не составляют “хор”, но выступают протагонистами. Хрупкая и стойкая Мария, пылкий Иоанн Креститель, скептический Пилат, властный Павел– это личности, а не просто носители коллективной психологии. В альбоме Иванова есть зарисовки лиц (именно лиц!) апостолов, каждое со своим индивидуальным складом и выражением.
Как же трактует Александр Иванов центральный образ – Иисуса Христа? Трудная задача; вдвойне трудная для исторического живописца, желавшего показать в едином лице Богочеловеческую сущность основателя христианства, не отделяя его от реальных условий земной жизни, но и не отвлекаясь от его сверхземной божественной природы.
Художник пристально изучал старинные изображения Христа на византийских мозаиках и фресках, стараясь, как всегда он делал, синтезировать эти впечатления с наблюдениями натуры и работой воображения. Еще работая над “Явлением Мессии”, он писал этюды головы Христа – несколько этюдов на одном полотне, здесь же головы античных статуй – Аполлона Бельведерского, Аполлино, старческой маски. В 1840-х годах был написан и портрет женщины с серьгами и ожерельем, в серо-лиловых тонах – суровое, замкнутое лицо, взгляд в сторону, который, по общему признанию, имеет нечто общее с ликом Христа: в нем есть тайна, неразгаданность. Христос таинственен на всех этюдах Иванова, что же касается внешности, черт лица – перед нами два типа: один эллинистический, классически правильный, с рыжеватыми волосами, другой – тип аскета, худощавое продолговатое лицо, высокий лоб, скулы, волосы темные. Христос в “Явлении Мессии” ближе к первому типу, Христос библейских эскизов – ко второму, только с белокурыми волосами. По словам Стасова, Иванов принял в качестве основного прототипа изображение на одной из мозаик Палермо.
Еще один образ, по-видимому, вспоминался ему – Христос “Тайной вечери” Леонардо да Винчи. Не лицо – Леонардо не дописал лицо Христа, а время его окончательно стерло, – но внутренний характер, как он выражен в жесте: брошенные на стол раскинутые руки, левая ладонью вверх. При этом глаза потуплены. Мистическую неясную глубину этого жеста, смысл которого словами непереводим, Иванов чувствовал. Сходное движение рук у его Иисуса в “Выходе с Тайной вечери”(39), в ночной сцене беседы с Никодимом и некоторых других эскизах.
Условно говоря, образ Христа у Иванова предстает в нескольких ипостасях. Первая, где художник, кажется, чувствует себя наиболее уверенно, – Христос-проповедник, исполненный энергии и воли. Даже если он виден издали или со спины, взоры и движения окружающих устремлены к нему, но никто не подступает вплотную, пространство вокруг него словно заряжено столь сильными токами, что переступить невидимую границу нельзя. Руки его чаще всего спокойно сложены, или он разводит их жестом широким и решительным – как бы развертывая мощные крылья. Он человек, сын человеческий, но знающий цель, знающий истину, – и человек, и нечто большее. Примечательно, что в образе, созданном Ивановым, совсем нет той искусственной мягкости, доходящей до сентиментальности, какую нередко приписывали Иисусу художники XIX века и поздние иконописцы. Иисус Иванова милосерден, но не мягкотел, он мог сказать, что принес не мир, но меч.
В сценах сокровенных бесед и таинств образ отсвечивает иными гранями: сын человеческий предстает ре-флектирующим, погруженным в раздумья, скорбным. Здесь особенно значительно изображение Тайной вечери – центрального евангельского рассказа о заключении Нового завета между Богом и людьми. О священном событии великого четверга, положившем начало христианской церкви, единодушно повествуют все четыре евангелиста; сомневаться в его исторической истинности Иванов не мог. Оно не сопровождалось какими-либо сверхъестественными знамениями, а вместе с тем полно неизъяснимой тайны, и это надо было выразить. Световые феерии, как в “Благовещении”(22) или “Преображении”, тут были бы неуместны, а простое, “реалистическое” изображение трапезы недостаточно. “Тайная вечеря” Леонардо не могла не повлиять на решение композиции, но у Леонардо вечеря происходит при полном дневном свете, что для Иванова неприемлемо. Он занялся поисками вечернего освещения. После ряда предварительных набросков он остановился на варианте с темным коричневатым фоном, передающим полумрак горницы. Высоко под потолком помещенный светильник освещает стол и бросает отсветы на фигуры апостолов, возлежащих вокруг стола на низких ложах. Эти отсветы художник обозначает не размытыми пятнами, а резкими линейными пробелами наподобие иконных “оживок” или “движков”. Белильные вьющиеся штрихи, выступающие из сумрачного фона, могут напоминать о фресках Феофана Грека (которого Иванов, конечно, не знал, но знал византийские росписи). Они-то и создают атмосферу тайны и внутреннего напряжения при внешней тишине. Таким же приемом написана отдельно сцена изобличения Иуды (здесь фигуры Христа и Иуды вынесены на первый план)(36) и с наибольшей впечатляющей силой – “Выход с Тайной вечери”(37). Здесь появляется “леонардовский” Христос с его прекрасным и странным жестом самоотречения, покорности воле Отца.
Меньше удались художнику сцены в Гефсиманском саду (38), хотя они закончены в цвете и впечатление глубокой, томительно-синей ночи достигнуто. Но цвет отяжелен, а поза Христа, склоняющегося перед белоснежным ангелом, явно искусственна.
“Скорбящий смертельно” Христос Гефсиманского сада предшествует страдающему и униженному Христу следующего дня. Это тот этап земной жизни Спасителя, когда он предельно умален, низведен до последнего из смертных, так что и ученики его покидают. Рисуя сцены страстей Господних, Иванов не боится быть грубым, почти брутальным (хуже то, что он становится прозаичным). В жалком замученном человеке, которого осыпают оскорблениями и насмешками, который сидит, некрасиво расставив ноги, неловко падает, придавленный тяжелым крестом, почти не остается сходства с прекрасным, повелительным проповедником. Он словно сам забыл – кто он. “Се человек”, – говорит о нем Пилат, и это в интерпретации нашего художника звучит горькой насмешкой над человеческим родом. В сценах бичевания Иисус изображен совершенно обнаженным – последняя степень унижения.
Особую группу образуют листы, изображающие искушения Христа сатаной (29). Их также нельзя отнести к лучшим. Они остаются на поисковой стадии: чувствуется, что их концепцию художник сам для себя не окончательно уяснил, колеблясь между “апотеозическим” и символическим истолкованием. Сатана-искуситель изображен традиционным бесом с копытами, рогами и крыльями нетопыря – примерно так же выглядели черти на иконе, которую Иванов писал для храма. Это далеко не тот “страшный и умный дух, дух самоуничтожения и небытия”, о котором говорит великий инквизитор у Достоевского. Соблазны мелкого беса, нарисованного Ивановым, не могут быть серьезными искушениями для Христа, и поэтому он как бы слегка подсмеивается, иронизирует над своим неудачливым антагонистом. Демоническое было чуждо художественной натуре Александра Иванова, в отличие от Врубеля, близкого ему по многим параметрам.
Но один лист из этой сюиты полон мистической значительности. Христос, один, сидит под сенью шатра, окруженный свитками ветхозаветных пророчеств. Поза, собранная и неподвижная, отдаленно напоминает ритуальные позы индийских будд, лик странен, непроницаем. Можно подумать, что художник хотел показать Иисуса, непостигнутого до конца людьми, с печатью вечной тайны – тайны его личности, его появления на земле, предсказанного древними пророками. Может быть, здесь нашли отражение собственные усилия художника, сопровождаемые мучительными сомнениями, постичь связь христианства с религиозными исканиями человечества.
Всю жизнь Иванов изучал Библию, всю жизнь бился над загадкой Богочеловека, терпя многие неудачи, – иначе не могло и быть. Но все его срывы на этом пути искупаются гениальным эскизом “Хождение по водам”(31), написанным без предварительных вариантов и проб, быстро, огненно, в порыве вдохновения. В основе лежит рассказ евангелиста Матфея о том, как ученики, плывя ночью в лодке по волнующемуся морю, увидели Христа, идущего к ним по воде. Христос позвал Петра и велел идти ему навстречу; Петр пошел, но, испугавшись, начал тонуть; тогда Христос поддержал его словами: “Маловерный! зачем ты усомнился?”
Эскиз выполнен на тонированной темно-желтой бумаге. Незакрашенные места, перемежаясь с зеленовато-голубым грозовым цветом неба и моря, образуют силуэт лодки, взметнувшейся на гребне волны, летящие в небе тучи и провалы волн. Фигуры Петра, упавшего на одно колено, и Иисуса, подающего ему руку, очерчены прерывистым белым штрихом и прозрачны. Иисус не ступает по воде, а мчится над ней, развевается его надутый ветром плащ – он в отблесках молний, в трепете сквозных отражений. Поразителен артистизм исполнения: в сущности, всего несколько пятен краски и несколько энергичных штрихов белилами, а между тем остается неотразимое впечатление ночной бури на море, смятения пловцов, спасения тонущего, присутствия великого Спасителя.
Штраус в книге “Жизнь Иисуса” упоминает о мысли Гёте по поводу этого евангельского сказания: “Эккерман передает, что Гёте считал этот рассказ самой красивой и для него по крайней мере самой ценной из легенд, поскольку в ней наглядно выступает наружу та высокая истина, что вера и бодрость духа ведут человека к победе и в самых трудных его предприятиях, между тем как возникновение малейшего сомнения влечет за собой неминуемую гибель”. Иванов, внимательно читавший Штрауса, конечно, не прошел мимо этих строк, созвучных и его собственному состоянию духа. Но в его интерпретации хождения по водам есть и другой оттенок. Не столько идея гибельности сомнений вообще – ибо через горнило сомнений неизбежно проходит человеческая душа, – сколько спасительная опора, даруемая сомневающемуся Христом. Его протянутая рука. Доверие к его словам, обращенным к ученикам: “Я с вами остаюсь во все дни до скончания века”. И вот здесь возможна параллель с Достоевским. Один из его героев, “философский деист” Версилов рассказывает, как однажды привиделась ему картина “осиротевшего мира”, мира без Бога. “Но замечательно, что я всегда кончал картинку мою видением, как у Гейне, “Христа на Балтийском море”. Я не мог обойтись без него, не мог не вообразить его, наконец, посреди осиротевших людей. Он приходил к ним, простирал к ним руки и говорил: “Как могли вы забыть его?”
Иванов едва ли соглашался с Гёте (по крайней мере в приведенном изложении его мысли) в том, что “возникновение малейшего сомнения влечет за собой неминуемую гибель”. Он сам был подвержен бесконечным сомнениям. Если он подсознательно отождествлялся с кем-либо из героев своего библейского цикла, то скорее всего с Петром. Петр и сомневался, и устрашался, и трижды отрекся от Христа в роковую ночь. Однако Христос, которому были открыты глубины человеческого сердца, завещал Петру: паси овец моих.
Наряду с “Хождением по водам”(31), “Ангел поражает Захарию немотой”(1), “Благовещением”(22) (заметим, что тема сомнения во всех этих вещах присутствует) к шедеврам новозаветного цикла принадлежит “Голгофа” (развернутое название: “Богоматерь, ученики и знавшие Иисуса смотрят на распятие”)(39). Большой акварели предшествует ряд рисунков, представляющих распятие крупным планом, как и было всегда принято в иконографии от византийских мозаик до произведений новейшего времени на этот сюжет. Но в окончательном варианте композиция необычна: действие происходит по ту сторону каменной стены, огораживающей лобное место; три креста с распятыми виднеются лишь издали, через ворота, которые открывает один из учеников Христа, по-видимому Иоанн. Другой рукой он поддерживает под локоть Марию – она направляется к страшной двери, ей предстоит пройти обширное пространство, усеянное человеческими костями, чтобы приблизиться к сыну, умирающему на кресте. Ее уста замкнуты, лик неподвижен. Контрастом трагическому спокойствию Богоматери выглядит смятение молодой женщины, заломившей руки над головой; еще одна, одетая в белое, бросается к воротам. Мужчины же не хотят смотреть на ужасное зрелище; собравшись в тесную группу, они закрывают лица от горя и стыда, а один (Петр?) в приступе отчаяния пал на землю. Двое сохранивших самообладание взобрались повыше и смотрят через ограду; хотя они видны со спины, заметно, что ими движет скорее любопытство, чем скорбь. Таким образом, показана вся гамма переживаний “знавших Иисуса”. Для их выражения художник находит такие отточенные пластические “формулы”, что драматические порывы, оставаясь человечески-естественными, как бы монументализируются, словно в античной трагедии. Эту акварель Иванов довел до полнейшей законченности в рисунке и цвете.
Почему он остановился на таком решении композиции, при котором главное событие отнесено на дальний план? Едва ли из желания дать оригинальную трактовку традиционному сюжету. Быть непохожим или похожим на других – это всегда мало заботило Иванова: его занимала суть дела. В данном случае он мог руководствоваться вот каким соображением. Согласно евангельским текстам Матфея и Марка, при казни Иисуса присутствовали только несколько преданных ему женщин (они “смотрели издали”), учеников же не было. Только в Евангелии от Иоанна говорится, что возле креста стояли мать Иисуса Мария и его “любимый ученик”, то есть Иоанн, и что Иисус, умирая, поручил мать его заботам. Другие же ученики отсутствовали, и о них вообще не упоминается. Это “белое пятно” должно было беспокоить художника: он хотел представить реакцию учеников на позорную казнь их любимого учителя, не мог допустить, что страх, малодушие и разочарование побудили их – даже Петра! – сразу от него отвернуться. И он выбрал компромиссную версию евангелиста Луки: “Все же, знавшие Его, и женщины, следовавшие за Ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это”. Под “знавшими Его” можно было подразумевать и учеников. Хотя стояли они на территории лобного места, Иванов поместил их вне, за оградой. Он показал всех учеников, общим числом двенадцать, столпившихся у грозных врат и не решающихся войти, – растерянных и удрученных, простых людей, рыбаков, еще не апостолов, какими они сделались потом. И среди них выделил тех, кто готов идти на Голгофу, – Марию, Иоанна и женщин, которые действительно были там, согласно четвертому Евангелию. Так Иванов создал психологически убедительную версию поведения учеников Иисуса.
В композиции “Голгофы” есть и художественно-символический смысл. Еще в “Явлении Мессии” Иванов изобразил Христа вдали, в глубине, на большом расстоянии от указующего на него Крестителя и всей группы людей ближнего плана. Это не вытекает из евангельского текста: ни в Евангелии от Иоанна, ни у синоптиков не сказано, что Креститель увидел Иисуса издалека. Его пространственная отдаленность, помещение главной фигуры на заднем плане – находка художника, сделанная не сразу: в самом раннем эскизе “Явления Мессии” Христос стоит рядом с Крестителем, окруженный взволнованной толпой, а пространство не имеет глубины; слабость этой первоначальной композиции по сравнению с окончательной очевидна. М. М. Алленов справедливо пишет: “Глубина и перспектива внесли в картину не только само по себе пространство, пейзаж, но и нечто вовсе отсутствовавшее в первоначальных эскизах, – а именно – время, длительность, – окончательно выдвинув в качестве доминирующего мотив преодоления стабильного бытия, идею открытого пути, стремления вдаль. Пространственная перспектива сообщила перспективу внутренним процессам мысли и чувств, представив их в ракурсе предчувствий и надежды”.
В библейских эскизах прием многозначительной удаленности встречается часто. В сцене первого появления Христа перед народом (по Евангелию Иоанна) его фигура, так же как в большой картине, возникает вдали. Композиция “Рождества” (несколько предварительных вариантов): на первом плане пастухи или волхвы, а ясли виднеются в глубине (26). Во многих сценах проповедей в храме проповедник виден в далекой перспективе. Нагорная проповедь, наиважнейшая в учении Христа, – снова аналогичное “Явлению Мессии” пространственное построение: Христос показан сидящим на отдаленном холме, народ располагается широким полукольцом внизу. Незаполненное пространство, отделяющее народ от проповедника и изолирующее его фигуру, – как бы промежуточная среда, через которую должны пройти слова проповеди, неясно слышимые и смутно понимаемые толпой. Когда Христос спускается с горы (лист “Возвращение с нагорной проповеди”)(30), толпа в молчании расступается – композиция оказывается перевернутой: теперь фигура Христа на первом плане и движется на зрителя “наплывом”, по сторонам от него немного позади идут ученики, а еще дальше, расходясь лучами от центральной фигуры, следуют остальные. Христос впереди всех, но один: остро чувствуется его отъединенность, обособленность, пронзительное одиночество среди завороженно следующих за ним людей.
Пространственные построения – ближе, дальше, выше, ниже – у Иванова не бывают случайными и всегда несут в себе глубокий внутренний смысл. Так и в “Голгофе”. Как при первом появлении перед людьми, так и в последний трагический момент своей земной жизни Христос виден издалека. Он – та точка схода, к которой устремляются линии человеческих судеб и надежд, но от нее отделяет труднопреодолимый путь. Здесь он символизируется мрачным пространством лобного места, где лежат непогребенные кости, куда ведут тяжелые врата – не те ли, о которых Христос говорит в Нагорной проповеди: “тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их”. Конец трудного пути – не гибель, а нетленная жизнь, и это также выражено в композиции “Голгофы”. Обратим внимание на то, как нарисован далекий крест с распятым Христом: общим абрисом он напоминает фигуру белого ангела с распластанными крыльями, являвшегося пастухам с вестью о Рождестве Спасителя. Этот далевой образ видится образом полета, освобождения. Если бы художник изобразил распятие вплотную, такого впечатления нельзя было бы достигнуть: тогда мы увидели бы страдающего, замученного человека на кресте, и только.
Сюжет “настоящего” полета в небо – Вознесения Христа, нашел в эскизах Иванова лишь предварительное и приблизительное воплощение: эти композиции далеко не завершены, так же как и сцены явления воскресшего Христа ученикам. Но понять замысел можно и по наброскам. В “Вознесении”(41) художник точно следует тексту Евангелия от Луки: благословив учеников, Христос “стал отдаляться от них и возноситься на небо”. В “Деяниях апостолов”, также написанных Лукой, добавлено, что “облако взяло Его из вида их” и когда они смотрели на небо, перед ними предстали “два мужа в белой одежде”, сказавшие, что Иисус вернется на землю. Этих “двух мужей в белом”, то есть ангелов, но без крыльев, Иванов написал бесплотными, как видения; Христос едва различим в белом сиянии облака, ученики, стоя на коленях и защищая глаза от яркого света, всматриваются в тающий, растворяющийся в небе силуэт, напоминающий силуэт распятого в “Голгофе”.
Александр Иванов намеревался продолжить свой новозаветный цикл деяниями апостолов. Несколько композиций посвящены Павлу, пламенному миссионеру, “апостолу язычников”. Павел был беспощадным гонителем христиан до тех пор, пока на пути в Дамаск не услышал голос с неба: “Савл, Савл! почто ты гонишь меня?” – сопровождавшийся ослепительным светом. Иванов изобразил не самый этот момент, но последующий – спутники Павла ведут его за руки, потерявшего зрение и потрясенного, что ясно прочитывается в его фигуре, хотя она видна со спины. Другие эскизы изображают деяния обращенного Павла в Риме и в эллинистических городах, заслужившие ему славу “учителя вселенной”. Образ его в трактовке Иванова вполне индивидуален и не похож ни на ветхозаветных пророков, ни на Иоанна Крестителя, ни на проповедующего Христа: “дерзновенный” проповедник, с осанкой “римского гражданина” (каким он действительно был), с фигурой массивной и мощной, напоминающей статуи Микеланд-жело. В одном эскизе у ног его лежит записывающий его слова евангелист Лука – спутник Павла в далеких путешествиях. (42) Он посещал и Афины; возможно, что несколько “античных” сцен среди библейских эскизов имеют отношение к истории Павла.
В течение последних десяти лет жизни Иванов редко обращался к своей большой картине: “У меня едва достает духу, чтоб более совершенствовать ее исполнение”. Он был человеком одной, всепоглощающей творческой идеи: если уж она овладевала им, то овладевала всецело. Работе над библейскими эскизами он отдавался целиком; все, что он в эти годы делал, было с ней так или иначе связано: пейзажные кроки, которые, по определению Алленова, “изображают как бы пустую сцену, на которой предстояло развернуться действию библейских легенд”, зарисовки животных (лошади, быки, овцы – без них не мыслится быт библейских народов), зарисовки костюмов, утвари, архитектуры. Есть, однако, серия этюдов маслом, которая как будто бы от библейских эскизов независима: знаменитые “Обнаженные мальчики”, написанные с высочайшим живописным мастерством и, как многие исследователи отмечали, без всякого “психологического привкуса” (по выражению Н. Г. Машковцева). Но действительно ли они не имеют отношения к библейской серии? Самый ранний этюд “Семь мальчиков в цветных одеждах”, безусловно, имеет отношение к “Явлению Мессии”: это проверка композиции на натуре, в пленэре. Этюды более поздние соотносимы с композициями на библейские темы. Гибкие тела мальчиков, их телодвижения, подсказывали художнику нужные пластические мотивы. Ему не требовалось ставить мальчиков, как натурщиков, в определенные позы – важнее было наблюдать те естественные позы, которые они принимали без напряжения, греясь на солнце, сидя, стоя, вставая, лежа на спине или на животе. Эти позы находили отголосок в сценах странствий израильтян в пустыне, слушания проповедей, крещения в Иордане. Не воспроизводились в точности, но варьировались. Впрочем, встречаются и прямые соответствия: например, поза голого мальчика, стоящего спиной к зрителю с приподнятыми руками (рисунок) совпадает с позой апостола в эскизе “Апостолы отвязывают ослицу”. Таким образом, серия “мальчиков” была скорее всего серией этюдов для библейских композиций. При этом “психологизм” действительно исключался: ведь если бы художник дал какую-то сюжетно-психологическую мотивацию сценам с мальчиками, она бы пришла в противоречие с содержанием библейских сцен. Пластические мотивы “мальчиков” должны были служить чистыми сосудами для дальнейшего содержательного наполнения в системе библейских эскизов (так же внепсихологичны и внесюжетны “Семь мальчиков” – вспомогательный этюд большой картины). Предполагать же, что “Обнаженные мальчики” создавались без всякой связи с последними или даже “в противовес” им (как думал М. В. Алпатов) трудно: Иванов ничего не делал иначе как в русле основного творческого замысла. Проблема человеческой фигуры внутри пейзажа, так блистательно решенная в этих этюдах, также имела прямое отношение к библейским эскизам, где действие очень часто происходит на открытом воздухе при свете солнца.
* * *
Замысел Александра Иванова остался более чем наполовину незавершенным даже в эскизах, не говоря уже о претворении эскизов в монументальные картины для “храма человечества”. Неизвестно, были ли у Иванова какие-либо предварительные соображения относительно архитектурного облика этого храма. Вероятно, его сооружение мыслилось лишь в идеале, в далекой перспективе времени. При всей своей склонности к грандиозным проектам Иванов сознавал, что задуманное им – не для одной человеческой жизни. “Если б, например, мне даже не удалось пробить или намекнуть на высокий и новый путь, стремление к нему все-таки показало, что он существует впереди, и это уже много и даже все, что может дать в настоящую минуту живописец”, – писал он брату из Петербурга в 1858 году, последнем году своей жизни. Хотя смерть художника была неожиданна и скоропостижна, в незаконченности библейского цикла чудится провиденциальный смысл. Незаконченность воспринимается как напутствие будущим поколениям: начало положено, а продолжение вверяется им.
Есть недосказанность и в самом замысле. Стремясь к систематизации, Иванов пытался опереться на Штрауса, но идеи художника не укладываются в рамки ученой схемы, да и с научной точки зрения построения Штрауса были сомнительны. По-видимому, круг сюжетов для предполагаемых пятисот композиций не был четко определен – а ведь Иванов придавал выбору сюжетов большое значение. Надо было выбирать из необозримого множества коллизий, содержащихся в Книге книг – Библии. О предпочтениях художника, более интуитивных, чем логических, можно только догадываться на основании того, каким сюжетам он отдает наибольшее любовное внимание, а какие опускает.
Во многом его выбор определяется приверженностью историзму. Это особенно заметно в новозаветном цикле, который Иванов собирался сделать как можно более полным. Хотя Сергей Иванов упоминал о намерении брата включить в цикл деяний Христа “наросшие” впоследствии предания и легенды, это, по-видимому, так и осталось намерением: в имеющихся эскизах мы их не найдем. Нигде не изображены, например, детские годы Иисуса, а о них рассказывается в апокрифических легендах, явно сочиненных. Художник вообще не обращается к апокрифам, а следует лишь текстам Нового завета, погружая их в атмосферу подлинной истории тех лет, включая сюда пейзаж Палестины, архитектуру, костюмы, обстановку жилищ, бытовые детали. Он решительно избегает сближения с иконописными канонами и не принимает во внимание догматы, установленные христианскими мыслителями через несколько веков после евангельских событий. В эскизах Иванова отсутствует даже такой укорененный в религиозной традиции образ, как Богоматерь с младенцем. Очевидно, потому, что культ Пресвятой Девы был введен позднее, на вселенских церковных соборах, в Евангелиях же о нем речи нет. Иванов создает трогательный женственный образ Марии, но не изображает ни ее последних лет жизни, ни Успения, ни принятия в “небесную славу” – все это добавлено позже, – он рисует только те эпизоды, о которых повествуют современники Марии евангелисты: Благовещение, Рождение Христа, Сретение, встреча с Елизаветой, бегство в Египет, Голгофа.
Как исторический живописец, Иванов хочет оставаться на почве истории, и только истории, и, видимо, Новый завет представляется ему единственным надежным источником: там ведут рассказ свидетели событий, происшедших в Палестине при римском наместнике Понтии Пилате. Художник стремится воссоздать события так, как их воспринимали люди той эпохи, чтобы и нынешние зрители увидели их словно бы собственными глазами. В таком “чисто историческом” подходе к Священному писанию, исключавшем доктринерство и догматизм, было по тем временам вольномыслие, которое, как думал Иванов, могло навлечь на него гонения. По словам Н. Г. Чернышевского, Иванов в беседе с ним (касавшейся книги Штрауса) говорил: “Искусство, развитию которого я буду служить, будет вредным для предрассудков и преданий”.
Ну, а каким же образом входили в сферу исторического чудесные явления? Не относились ли они к области “предрассудков и преданий? Однако Иванов писал их с особенным воодушевлением. Противоречия здесь нет. И уму Иванова, воспитанному на романтической философии, и его художественному чувству мифологический элемент представлялся неотделимым от истории народов, так же соединенным с ней, как соединены материальное и духовное в человеческой жизни. Историческая живопись объемлет то и другое в своих “смыслообразах” (по терминологии Шеллинга). Если рационалист Штраус находил возможным и нужным вылущить из религиозных сказаний историческое ядро, очистив его от мифологических и символических покровов (сильно обедняя этим и религию, и саму историю), то художнику, такому как Иванов, это было противопоказано. Как ни хотел он идти в ногу с “современной ученостью”, ему оставалась внутренне близка мысль Шеллинга: “само историческое есть только некоторый вид символического”.
В противном случае становилась неосуществимой миссия художника, как Иванов ее понимал: содействие нравственному, духовному возрождению людей, – современников и тех, кто придет потом. Иванов не верил, что этой высокой задаче способно послужить простое зрелище того, как они сами или их предки пили, ели, работали, воевали, – оттого он так презирал жанровую живопись (по определению Стасова: “художество, берущее себе задачи из ежедневной будничной жизни”), называя ее “разменом сил на мелочи и вздоры”. Дать опору духовным поискам и упованиям, открыть глаза на “Царство Божие внутри нас” – вот какие цели он, великий утопист, считал достойным искусства. В “храме человечества” должна предстать история людей, заключивших некогда союз с Богом, – как они шли многотрудным путем, поднимаясь и падая, но храня путеводную нить надежды, ведущую сквозь века до настоящих дней с их “падшей нравственностью”. Мессианистские чаяния и были такой путеводной нитью, поэтому Иванов сделал их сквозной темой своего цикла – вслед за Штраусом, но в ином смысловом ракурсе. Эта внутренняя тема определила наряду с историческим еще один принцип отбора сюжетов – тех, где герои Библии, внимая некоему зову, расстаются с инерцией привычного бытия и пускаются в неизведанный путь. Иванов любил такие сюжеты, их затаенную символику. Авраам покидает землю свою и дом отца своего, чтобы идти, по обетованию Господа, в неведомую землю Ханаанскую. Моисей, стряхнув инерцию рабской доли, выводит из Египта свой погрязший в рабстве народ. Старый Илия, преодолевая безмерную усталость и жажду покоя смерти, поднимается по призыву ангела: “Встань, ешь и пей, ибо дальняя дорога перед тобою”. Отрок Давид, пасущий овец, безмятежно отдыхает под сенью дерева, – но перед ним появляется гонец пророка Самуила, и пастух оставляет свои стада и поля ради высокой и трудной доли. Иосиф, “обручник” Марии, найдя со своим семейством спасительное убежище в Египте, во сне слышит голос ангела: “Встань, возьми Младенца и Матерь Его, и иди в землю Израилеву”.
Идея пути, возвещаемого небесным посланцем, – один из главных лейтмотивов библейской серии Иванова. В христологическом цикле она раскрывается как путь человека к самому себе – к своей истинной духовной сущности. Явление Мессии застает мир греховным и порабощенным. “Если бы Иисус вооружил свой народ против Тиберия, – записывал Иванов на листе одного из альбомов, – то, конечно, пал бы безуспешен… Он нашел лучшим выйти в свет с проповедью о духовном человеке”. В другой заметке говорится, что в личности Иисуса воплотилась вся “затерянная нравственность” людей. “Надобно полагать, что царствие небесное есть нравственное совершенство…” Из подобных заметок, разрозненных, разбросанных по листам альбомов, очевидно, следует, что, по мысли художника, чаемое спасение людей состоит в пробуждении их собственных нравственных сил – через Христа. Но для того нужна вера в эти силы, заключенные в человеке, сотворенном по образу и подобию Божию, то есть вера в божественность Христа, иначе его смерть на кресте только доказала бы бессилие нравственных заповедей, которые он провозглашал. На пути к нравственному совершенству, к пробуждению в себе “духовного человека”, нужно превозмочь неверие, малодушие, уныние, робость – а им подвержены даже избранные: Захария, Иосиф, Петр и те ученики Иисуса, которые сиротливо жмутся за оградой Голгофы, чувствуя себя обманутыми и брошенными.
В этом смысловом контексте понятно, почему Иванов с таким вдохновением изображал “чудеса”. Не те, что связаны с многочисленными исцелениями больных, – они доступны и людям, но чудеса Преображения, Благой вести, Хождения по водам, Воскресения. Они в понимании художника есть не “сон человеческого духа”, а скорее его прозрения: момент высшей истины, когда как бы разрывается завеса обыденности и возникает сияющий образ сбывшихся надежд, необманутых ожиданий. Не будь этих мистических озарений, апостолы вернулись бы к своим рыболовным снастям и не стали проповедовать нравственное учение Христа; вся евангельская история выглядела бы беспросветно печальной. Как говорил апостол Павел, “если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша”.
Не забудем, однако, что Иванов, замышляя представить свой цикл суду современников – критически мыслящих людей XIX века, хотел апеллировать к их разуму. Те истины, которые древними постигались через откровение, теперь, по мнению Иванова, могут и должны быть оправданы мыслью, изучением, анализом. Пусть современный образованный человек воспримет эти истины не слепо, как затверженную доктрину, а как итог многовековых духовных исканий, в которых соучаствовали и древние иудеи, и народы Востока, и греки с их пророческими мифами. Пусть перед глазами зрителя развернется величественная историческая панорама – не в условном “апотеозическом стиле”, но “с глубокими сведениями древности”, “увенчав все усилия ученых и антиквариев”. Вот тот “высокий и новый путь” искусства, которому Иванов хотел положить начало своим трудом над библейскими эскизами. Путь возвышенного, не приземленного реализма.
Иванову близка была мысль Гоголя: “мир в дороге, а не у пристани”. Миру, находящемуся на перепутье, в тревожных поисках, он адресовал свое художественное воззвание. Приблизительно в те же годы поэт В. Г. Бенедиктов написал стихотворение “И ныне…” – оно было опубликовано в журнале “Современник”:
Над нами те ж, как древле, небеса,
И так же льют нам благ своих потоки,
И в наши дни творятся чудеса,
И в наши дни рождаются пророки.
……
Не истощил Господь своих даров,
Не оскудел верховной благодатью:
Он все творит – и библия миров
Не замкнута последнею печатью.
……
Не унывай, о малодушный род!
Не падайте, о племена земные!
Бог не устал, Бог шествует вперед,
Мир борется с враждебной силой змия.
* * *
Библейские эскизы долгое время оставались под спудом. Когда художник после почти тридцатилетнего пребывания в Италии вернулся в Петербург, где его ждало начало славы и конец жизни, он привез с собой только большую картину “Явление Мессии”. О трудах его последних лет почти никто не знал; в представлении современников Александр Иванов был автором единственной картины и многочисленных этюдов к ней, да еще вспоминали его раннее полотно “Явление Христа Магдалине” – некоторые даже ставили его выше “Явления Мессии”. Большая картина вызывала отзывы разноречивые. Она как бы не ко времени пришлась. Общество было возбуждено и взбудоражено катастрофой крымской войны, началом нового царствования, грядущими реформами. В искусстве назревали повороты, но не те, о которых помышлял Иванов. Уже известна была диссертация Чернышевского “Эстетические отношения искусства к действительности”, уже начала выходить на передовые рубежи жанровая живопись, так нелюбимая Ивановым. Как это часто бывает в переломные моменты истории, художественные круги размежевывались на прогрессистов и консерваторов, относительно же Иванова было неясно, к какому лагерю он принадлежит: это сбивало с толку, его и хвалили и порицали невпопад. После внезапной смерти художника, поразившей всех, продолжалась борьба за него между славянофилами и революционными демократами: и те и другие хотели считать его своим. Но, кажется, ни те ни другие его до конца не понимали.
Александр Иванов был из тех художников, чье творчество постигается не сразу и влияет исподволь. Понимание приходило постепенно. Среди тех, кому уже в 1858 году “Явление Мессии” запало в душу, был юный Крамской, был будущий “учитель русских художников” П. Чистяков. “Богоискательская” струя в передвижничестве, наметившаяся позднее – произведения Ге, Крамского, Антокольского, Поленова, Нестерова, – брала истоки в творчестве Иванова. Методы работы над картиной путем “сличения этюдов” плодотворно развивались Суриковым. Все эти импульсы шли от “Явления Мессии”. Библейские эскизы, очень мало кому известные, как бы дожидались своего часа. Только через двадцать лет после смерти художника, в 1879 году было начато, а в 1887 году закончено их литографированное издание отдельными выпусками. Эти цветные литографии, превосходные по качеству, издавались в Берлине и были большой редкостью, но сыграли свою роль, многим открыв глаза на нового Иванова. Художники и критики “Мира искусства” по достоинству оценили библейские эскизы. Александр Бенуа считал их гениальными и без колебаний ставил выше “Явления Мессии”.
Именно библейские эскизы оказали влияние на творчество Врубеля. Духовная и стилевая преемственность чувствуется уже в академических рисунках Врубеля и становится вполне очевидной в его киевских работах, особенно в акварельных эскизах для Владимирского собора. Есть близость к Иванову в самих графических приемах Врубеля, основанных на “культе глубокой натуры”: филигранность формы, расчленение планов, при котором свет и тени, красочные пятна обладают собственным силуэтом – без смазывания и “утушевывания”. Но и весь художественный строй врубелевских евангельских эскизов, их атмосфера, имеют нечто общее с библейскими эскизами Иванова. Их сближают поиски “большого стиля” на скрещении ренессансных традиций с Востоком и Византией. Сближают одухотворенность, возвышенность образов.
У Врубеля есть то, что в библейских эскизах Иванова не предчувствовалось, – сумрачное томление духа перед загадкой смерти, чувства мятежные, трагические. В этом они антиподы: один – носитель света, ясного разума, другого притягивает темная бездна. Но и тот и другой чувствовали себя призванными “будить душу от мелочей будничного величавыми образами” (слова Врубеля).
Дальше эта линия обрывается. Искусство ХХ столетия не пошло путем Иванова и храм человечества не воздвигло. Но и сейчас мы можем повторить сказанное в 20-х годах уже прошлого века М. В. Нестеровым: “Я верю, что рост значения и степень понимания Иванова будет возрастать от ряда новых, выходящих из самой жизни причин… и как знать, может быть, наш народ еще познает истинную гениальность сурового художника, так долго ускользающую, так глубоко скрытую”.
Нина Дмитриева
Газета «Искусство» № 12, 2001 год