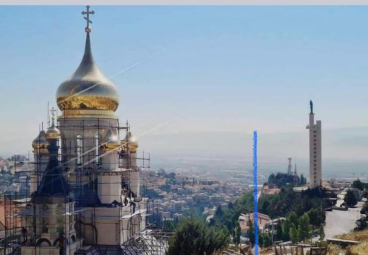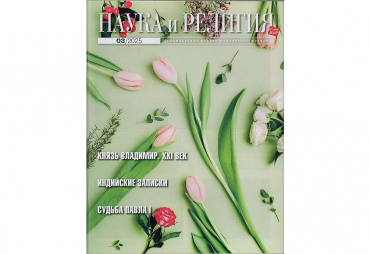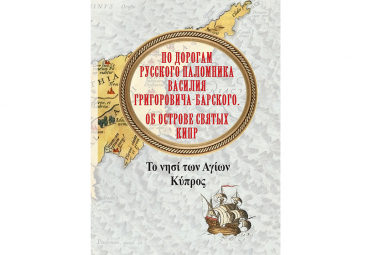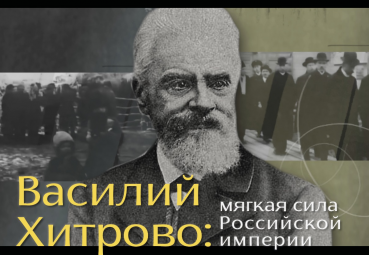И. А. Гончаров и Ф. М. Достоевский. Испытание Евангелием
Когда-то Л. Толстой подчеркнул эти различия следующими словами: «Конечно, это настоящий писатель, с истинно религиозным исканием, не как какой-нибудь Гончаров». Действительно, «религиозное искание» есть стержень мировоззрения. И если его нет, то все остальные точки соприкосновения уже не имеют особого значения: различия будут гораздо более значимыми. Однако сегодня уже ясно, что Гончаров не менее напряжённо, хотя и не столь демонстративно, как Достоевский, искал религиозную истину. Лишь теперь возникла возможность более глубоко взглянуть на творчество двух писателей в их сопоставлении и наконец обратиться к главному: к историософии двух авторов, видевших исторический путь человечества в свете религиозной истины, а потому неизбежно близких в чём-то главном, существенно важном. До сих пор внимание обращалось лишь на поэтику, творческую манеру писателей, а это — при резких индивидуальных разичиях Гончарова и Достоевского — приводило сразу только к противопоставлению.
Друзьями они не стали, но впоследствии встречались периодически и внимательно следили за творчеством друг друга. По характеру, темпераменту, да и по общественному положению (Гончаров впоследствии занимал высокие должности в цензурном комитете, стал действительным статским советником) они чрезвычайно рознились. В каком-то смысле они были противоположностями — по свойствам как характера, так и творческого дарования. Насколько Достоевский горяч, страстен, настолько Гончаров спокоен и уравновешен. Достоевский в своих романах показывает прежде всего идею личности, в то время как для Гончарова идея всегда выражена в пластическом образе. Достоевский в своих произведениях то и дело прибегает к курсиву, дабы подчеркнуть эту идею. У Гончарова это невозможно.
Оба писателя были людьми глубоко религиозными, но если у Достоевского «осанна» прошла через горнило сомнений, то Гончаров веровал просто, с детских лет не выходя из церковной ограды, и в письме к А. Ф. Кони от 30 июня 1886 года с замечательной искренностью писал: «Я с умилением смотрю на тех сокрушенных духом и раздавленных жизнью старичков и старушек, которые, гнездясь по стенке в церквах, или в своих каморках перед лампадой, тихо и безропотно несут свое иго — и видят жизнь и над жизнью высоко только крест и Евангелие, одному этому верят и на одно надеются!
Отчего мы не такие. «Это глупые, блаженные»,— говорят мудрецы мыслители. Нет — это люди, это те, которым открыто то, что скрыто от умных и разумных. Тех есть Царствие Божие и они сынами Божиими нарекутся!»
У Гончарова и Достоевского — разный предмет художественного исследования. Первый изображает человека в его стремлении к равновесию, его последовательный путь к идеалу, либо незаметное, даже для самого человека, отступление от этого идеала. Его героям противопоказаны резкие изменения настроений. Достоевский изображает сломы настроений, вызванные страстностью и максимализмом характеров героев.
Вряд ли отношения столь разных по характеру и творческим кредо писателей могли быть безоблачными. Но и при всём том, что перед нами — писатели слишком несходные, создающие совершенно различную атмосферу жизни в своих произведениях о России, они оказались неожиданно близки — в своей тяге к масштабным концептуальным обобщениям, в своём видении современной русской и мировой жизни — в контексте «Божественного замысла» о человечестве.
Ф. М. Достоевский и И. А. Гончаров вступили на литературное поприще в 1840-е гг. Оба они прошли через кружок В. Г. Белинского, через увлечение Н. В. Гоголем. Затем поддерживали определенные взаимоотношения вплоть до смерти Достоевского. Они познакомились в 1846 году в салоне Майковых. Романы «Бедные люди» и «Обыкновенная история» появились практически в одно время: в 1846 и в начале 1847 гг. Достоевский сразу воспринял Гончарова как соперника в литературе, и соперника счастливого. В письме к своему брату М. М. Достоевскому от 1 апреля 1846 года автор «Бедных людей» и «Двойника» высказался о своем «литературном сопернике» И. А. Гончарове: «Явилась целая тьма новых писателей. Иные мои соперники. Из них особенно замечателен Герцен (Искандер) и Гончаров. 1-й печатался, второй начинающий и не печатавшийся нигде. Их ужасно хвалят. Первенство остается за мною покамест и надеюсь, что навсегда…» Достоевский всегда внимательнейшим образом и, в известном смысле, ревниво следил за творчеством Гончарова. Сразу по выходе «Сна Обломова» Достоевский прочёл его и при встрече со знакомыми цитировал гончаровское произведение.
Достоевский на каторге с жадным интересом следит за развитием русской литературы, читает журналы и мечтает вернуться к активной литературной деятельности. Следит он внимательно и за деятельностью Гончарова. 20 апреля 1859 года в «Отечественных записках» вышла последняя часть романа «Обломов». Достоевский в это время находится в Семипалатинске. Готовится к выходу «Дядюшкин сон» и идет усиленная работа над «Селом Степанчиковым». Очевидно, Достоевский в Семипалатинске следил за выходом романа «Обломов» и читал его в журнальном варианте. В то время как Н. А. Добролюбов в статье «Что такое обломовщина», Л. Н. Толстой, в частном письме, и другие дают одобрительные отзывы о новом романе Гончарова, Достоевский пишет в письме к брату М. М. Достоевскому от 9 мая 1859 года о романе: «По-моему, отвратительный». Трудно сказать, отчего Достоевский даёт столь уничижительную оценку капитальному произведению Гончарова. Можно предположить одно: он не увидел в романе «идей», вернее, не сразу разглядел их. Достоевский явно недооценил мощь и многосмысловое значение гончаровской пластической образности. В середине 1860-х гг. у Достоевского уже оформлена одна из его главных «идей» о ходе человеческого развития, об отношениях Бога и человечества. Если Гончаров во «Фрегате «Паллада»» и в своих романах акцентирует идею цивилизации как части Божьего Промысла о человеке, то для Достоевского это идея «вчерашнего дня». В набросках к своей статье «Социализм и христианство» он намечает свою «историософию», которая глубоко проявится в его творчестве, а в открытом виде — в «Сне смешного человека». Итак: «Когда человек живёт массами (в первобытных патриархальных общинах, о которых остались предания) — то человек живёт непосредственно.
Затем наступает время переходное, то есть дальнейшее развитие, то есть цивилизация. (Цивилизация есть время переходное.) В этом дальнейшем развитии наступает феномен, новый факт, которого никому не миновать, это развитие личного сознания и отрицание непосредственных идей и законов (авторитетных, патриархальных, законов масс). Человек как личность всегда в этом состоянии своего общегенетического роста становился во враждебное, отрицательное отношение к авторитетному закону масс и всех.Терял поэтому всегда веру и в Бога. (Тем кончались всякие цивилизации…) Это состояние, то есть распадение масс на личности, иначе цивилизация, есть состояние болезненное. Потеря живой идеи о Боге тому свидетельствует… Если б не указано было человеку в этом его состоянии цели — мне кажется, он бы с ума сошёл всем человечеством. Указан Христос…. В чём закон этого идеала? Возвращение в непосредственность, в массу, но свободное… Патриархальность было состояние первобытное. Цивилизация — среднее, переходное. Христианство — третья и последняя степень человека, но тут кончается развитие, достигается идеал…»
Достоевский, разумеется, недооценивал способность Гончарова к философскому осмыслению действительности, хотя и чувствовал в нём нечто родственное, видя, например, в «Сне Обломова» явный образ того, что сам он называет патриархальной жизнью или «законом масс». Неясно пока, читал ли Достоевский «Фрегат «Палладу»» Гончарова, а если читал, то сумел ли оценить историософскую (цивилизационную в основе) концепцию этой книги, а стало быть, и чрезвычайную близость к себе Гончарова как мыслителя, поднимающего тот же вопрос, что и он сам: «Бог и человечество».
Гончарова интересует лишь столкновение того, что Достоевский называет «патриархальностью» (первый этап развития человечества, отражённый в «Сне Обломова») и «цивилизацией» (деятельность Петра Ивановича Адуева, Штольца, а также — в морально скорректированном виде — Тушина, деятельность англичан, России, Америки в Сибири и малоразвитых азиатских и африканских странах, как это отразилось во «Фрегате «Паллада»» и пр.). Причём, в «цивилизации» Гончаров видит и потенциал «христианства». «Письма столичного друга к провинциальному жениху» Гончарова особенно явственно подчёркивают, что Гончаров пытается в самом «болезненном» цивилизационном периоде развития человечества усмотреть ростки христианства. Он пытается увидеть, как в современной цивилизованном обществе человечекая личность может сохранить в себе и реализовать в обычной жизненной практике христианский идеал. Отсюда появляется значащее для него понятие «порядочный человек». И отсюда же — у Гончарова не столь резкое определение цивилизации, как у Достоевского, который называет её «болезненное состояние». Для Гончарова цивилизование мира есть не только болезнь, как у Достоевского, но и выполнение Божьего «задания»: превратить пустыни в сады, вернув тем самым Богу «плод брошенного Им зерна» («Фрегат «Паллада»»). Достоевский подчёркивает в Боге идею справедливости и совести, Гончаров — творчество. На перекрестье этих понятий и возникают все схождения и различия между Достоевским и Гончаровым как писателями со своими историософскими концепциями.
Только после «Записных книжек» 1864–1865 гг., в которых оформилась историософия Достоевского, после «Преступления и наказания», где образ Обломова присутствует в своем плоскостном переложении, Достоевский начинает понемногу вглядываться в глубину гончаровского творчества и, вероятно, замечает в нём хотя и не сходную со своей, но историософию. Тон высказываний о Гончарове и его героях, о его произведениях начинает меняться. Но произошло это не сразу. В начале 1860-х гг. он видит в образе Обломова олицетворение лени, апатии, эгоизма.
Роман «Обломов» явно его задевает за живое, и не только блестящей литературной отделкой, но и образом главного героя. К началу 1860 года у него уже существовал замысел, условно обозначенный им как «Апатия и впечатления». Авторы «Летописи жизни и творчества Ф. М. Достоевского» отмечают по тому поводу: «… замысел «Апатия и впечатления» воплощен не был. Возможно, это условное название задуманной публицистической статьи (III, 540), связанной с недавно вышедшим романом Гончарова «Обломов»: в нём тема апатии является сквозной (апатия, т. е. «сон души», ч. II, гл. III) — привычное состояние героя романа. Возможно, с этой же записью связан замысел статьи, условно названной «Гончаров»…» Таким образом, хотя и не сразу, но Достоевский сумел заметить глубину и достоинства гончаровского романа.
Учитывая замысел под названием «Апатия», легко понять, что мотивы «Обломова» не совсем неожиданно вошли в роман «Преступление и наказание». Причём, в этом романе Обломов «присутствует» именно в качестве «петербургского продукта», лентяя. Чтобы убедиться в этом, достаточно привести разговор Разумихина с доктором Зосимовым о хозяйке Раскольникова. На попытки Разумихина сблизить с ней Зосимова, последний отвечает вопросом: «Да на что мне она?» В речи Разумихина Достоевский дает как бы квинтэссенцию идеи «обломовщины»: «Эх, не могу я тебе разъяснить никак! Видишь: вы оба друг к другу совершенно подходите! Я и прежде о тебе думал… Ведь ты кончишь же этим! Так не все ли тебе равно — раньше или позже? Тут, брат, этакое перинное начало лежит,- ах! Да и не одно перинное! Тут втягивает: тут конец свету, якорь, тихое пристанище, пуп земли, трехрыбное основание мира, эссенция блинов, жирных кулебяк, вечерного самовара, тихих воздыханий и теплых кацавеек, натопленных лежанок,- ну, вот ты точно умер, а в то же время и жив, обе выгоды разом!»
Между «Преступлением и наказанием» и романом «Идиот» пролегает некая граница в восприятии Достоевским образа Ильи Обломова. После 1867 года восприятие в значительной мере меняется. Через три недели после встречи с Гончаровым в Бадене Достоевский познакомился в Базеле с картиной Г. Гольбейна «Мертвый Христос», и почти сразу после этого в его голове формируется первоначальный замысел романа «Идиот». Интересно, что и сейчас фигура Обломова продолжает оставаться притягательной для Достоевского. Только на этот раз романист сумел переоценить не сразу раскрывшийся для него масштабный замысел гончаровского романа и гениально схваченную фигуру Ильи Обломова. Теперь Достоевскому интересны не лежащие на поверхности бытовые черты гончаровского героя, а евангельское содержание этого образа, которое он не мог не почувствовать опять-таки лучше всех других современников Гончарова. Евангельский дух романа, надсадную ностальгическую ноту, пронизывающую роман Гончарова не только как личностный мотив, но и как отголосок евангельской притчи о «закопанных дарах», Достоевский сумел рассмотреть в тексте «Обломова». Увидел он и евангельскую основу образа главного героя — его необыкновенную и непобедимую никакими обстоятельствами кротость: в Обломове писатель разглядел черты, хотя и отдаленно, но напоминающие Христа. М. А. Александров, работавший в типографии, где печатался журнал Достоевского «Гражданин», вспоминает: «Впоследствии, когда «Идиот» был уже давно мною прочитан, однажды в разговоре коснулись И. А. Гончарова, и я с большою похвалою отозвался об его «Обломове», Федор Михайлович соглашался, что «Обломов» хорош, но заметил мне:
- А мой идиот ведь тоже Обломов.
- Как это, Федор Михайлович? — спросил было я, но тотчас спохватился.- Ах да! ведь в обоих романах герои — идиоты.
- Ну да! Только мой идиот лучше гончаровского… Гончаровский идиот — мелкий, в нем много мещанства, а мой идиот — благороден, возвышен».
В письме к С. А. Ивановой от 1 января 1868 года Достоевский объяснял свой замысел: «Главная мысль романа — изобразить положительно прекрасного человека… Все писатели, не только наши, но даже все европейские, кто только ни брался за изображение положительно прекрасного,— всегда пасовал. Потому что это задача безмерная. Прекрасное есть идеал, а идеал — ни наш, ни цивилизованной Европы ещё далеко не выработался. На свете есть одно только положительно прекрасное лицо — Христос…» Очевидно, что Достоевский, сумел всё-таки разглядеть в Обломове Христа («Обломов — Христос»), а стало быть, почувствовать некую параллельность Гончарова своим поискам идеала, основанным на оригинальной историософии. Разумеется, он не мог принять у Гончарова его христиански-цивилизаторский пафос, считая, что цивилизация и идеал Христа — не совместимы. Поэтому он видит в Обломове — лишь тень Христа, в то время как в своём князе Мышкине — более духовный, более идеальный, «положительно прекрасный» образ. Образ из будущего. Ведь в «Записных книжках» он пишет: «Христианство — третья и последняя степень человека, но тут кончается развитие, достигается идеал, следовательно, уж по одной логике, по одному лишь тому, что в природе всё математически верно, следовательно, и тут не может быть иронии или насмешки,— есть будущая жизнь».
То есть если в «Обыкновенной истории» и «Обломове» изображается столкновении патриархальности и цивилизации (прошлого и настоящего), то в романе «Идиот» Достоевский изображает столкновение цивилизации и христианства (настоящего и будущего). Обломов приходит в петербургскую цивилизацию из прошлого, князь Мышкин — из будущего. Христианские потенции Обломова осложнены чертами из прошлого (лень, апатия, эгоизм), в то время как христианский облик Мышкина — взят в чистом виде из будущего. Им обоим нет места в цивилизационном обществе, но по разным причинам. Отсюда и разность в пластической убедительности образов. Обломов — изваянная скульптура, абсолютно пластический образ, личность «вымирающая», герой, которому дана тихая, как сон, смерть. Князь Мышкин не приживается в реальном современном мире, это гость из будущего, который приехал откуда-то из далёкого швейцарского тумана — и в него же возвращается, окончательно проявляя свою юродивые («не от мира сего») черты. В этом смысле Достоевский был абсолютно прав, говоря: «Мой идиот лучше».
Нельзя не отметить, что хотя Достоевский и почувствовал положительное начало романа Гончарова именно в образе Ильи Обломова, он с высоты своего религиозного идеала подчеркнул «усреднённость», или, если угодно, «заземлённость» духовного поиска Гончарова, указав на образ Штольца — как на положительный в понимании Гончарова (что не вполне раскрывает замысел Гончарова, но выпрямляет до искажения гончаровскую мысль). В письме к А. Н. Майкову от 25 марта (6 апреля) 1870 года Достоевский, задумавший уже «Братьев Карамазовых», писал: «Авось выведу величавую, положительную святую фигуру. Это уже не Костанжогло-с и не немец (забыл фамилию) в «Обломове», и не Лопухины, не Рахметовы». После слова «Обломов» добавлено: «Почем мы знаем: может быть, именно Тихон-то и составляет наш русский положительный тип, который ищет наша литература». Достоевский хотя и почувствовал религиозный потенциал гончаровского романа, как бы не хочет признать до конца, что и Гончаров писатель «с религиозным исканием». Отсюда акцент на «искании» в области национального менталитета (немец Штольц). Это же акцентирование в Гончарове национального не дало понять Достоевскому и образ Райского в «Обрыве». Подобно тому, как Обломова он объявил «петербургским» продуктом, Райского Достоевский называет тоже клеветой на русского человека: «Все начинает человек, задается большим и не может кончить даже малого». Это и дало Достоевскому основание назвать в письме к Н. И. Страхову от 26 февраля 1869 года образ Райского «клеветой на русский характер». Но дело в том, что Гончаров многомерен: в его романах безусловно производится анализ национального характера (в этом он следовал за Гоголем), однако в них безусловно наличествует и даже доминирует религиозный поиск (на этом поприще Достоевский сознавал свою исключительность и лишь невольно вынужден был признать, что в Обломове есть черты «Христа»).
Развитие этой же «христианской» линии творческих взаимоотношений Гончарова и Достоевского произошло уже в 1877 году, в «Сне смешного человека», в котором художественно оформляются тезисы из набросков Достоевского к статье «Социализм и христианство». В «Дневнике писателя» за 1876 год Достоевский пишет о литературе 1840-х гг.: «Это та самая литература, которая дала нам полное собрание сочинений Гоголя… Затем вывела Тургенева с его «Записками охотника»… затем Гончарова, написавшего еще в 40-х годах «Обломова» и напечатавшего тогда же из него эпизод «Сон Обломова», который с восхищением прочла вся Россия!» «Сон Обломова», несомненно, поразил в своё время воображение Достоевского, причём, вероятно, поразил масштабностью охвата широчайшего эпохального контекста образа Обломова: от античности до современности. Гончаров любовно описал детство Ильи Обломова, а вместе с тем и детство всего человечества (идиллия «Золотого века»), возводя психологический феномен Обломова — в перл создания. В «Сне Обломова» Гончаров изображает глубины не только индивидуальной психологии Обломова, но и современного человека, отрывающегося от своей природно-патриархальной «пуповины»: эпического, неспешного древнего мира, вполне соразмерного естественным, не напрягающимся силам человека, живущего на земле пока ещё под теплым, материнским покровом природы и патриахального социума. В этом мире ещё нет представления об ускоряющемся беге времени, о необходимости ломки самого себя ради достижения отвлечённых целей, о систематичности, повышенной ответственности за свои поступки в чуждой или враждебно настроенной среде. Гончаров сталкивает в сознании читателя две огромных эпохи земной истории. Несмотря на непосредственное читательское восхищение «Сном Обломова», Достоевский, с его обострённым восприятием идеи «золотого века» и концептуальным историческим мышлением, лишь позже смог вполне оценить именно масштабность гончаровского замысла, его умение проникнуть в область исторических эпохальных символов и их выражения в интуитивно-подсознательном. Несмотря на огромнейшие различия в способах изображения действительности, Достоевский также обращается к жанру-теме «сна», когда пытается ёмко и лаконично выразить свою истоирософию, своё представление о главных исторических фазисах развития человечества. «Сон смешного человека» (1877) так или иначе перекликается с сердцевиной замысла «Сна Обломова», хотя произведение Достоевского лишено роскошной пластичности «Сна Обломова». Античные мотивы в «Сне Обломова» — лишь частное подтверждение того, что Гончаров мыслит широко исторически. За локальным временным моментом в его произведениях просматривается огромная историческая ретроспектива и перспектива. Достоевский не мог этого не чувствовать и не оценить. В «Сне смешного человека» замысел более формулируем, более абстрактен, более рационально выстроен, чем у Гончарова. Достоевский яснее, чем Гончаров, выражает свою историческую концепцию, и вслед за ним прибегает к жанру «Сна».
Именно в 1870-е гг. Достоевский оценил не только Гончарова-писателя, но и гончарова-мыслителя. Характерны его новые высказывания. Достоевский однажды заметил в «Дневнике писателя»: «…раз вечером, мне случилось встретиться на улице с одним из любимейших мною наших писателей. Встречаемся мы с ним очень редко, в несколько месяцев раз, и всегда случайно, всё как-нибудь на улице. Это один из виднейших членов тех пяти или шести наших беллетристов, которых принято, всех вместе, называть почему-то «плеядою». <…> Я люблю встречаться с этим милым и любимым моим романистом, и люблю ему доказывать, между прочим, что не верю и не хочу ни за что поверить, что он устарел, как он говорит, и более уже ничего не напишет. Из краткого разговора с ним я всегда уношу какое-нибудь тонкое и дальновидное его слово…» И ещё: «Я на-днях встретил Гончарова,— сообщал Достоевский в 1876 г. Х. Д. Алчевской,— и на мой искренний вопрос: понимает ли он все в текущей действительности, или кое-что уже перестал понимать, он мне прямо ответил, что многое «перестал понимать». Конечно, я про себя знаю, что этот большой ум не только понимает, но и учителей научит, но в том известном смысле, в котором я спрашивал (и что он понял с ? слова), он, разумеется, не то что не понимает, а не хочет понимать. «Мне дороги мои идеалы и то, что я так излюбил в жизни,— прибавил он,— я и хочу с этим провести те немного лет, которые мне остались, а штудировать этих (он указал мне на проходившую толпу на Невском проспекте) мне обременительно, потому что на них пойдет мое дорогое время»…»
Как «Фрегат «Паллада»», так и романы Гончарова, в особенности «Обломов», дали русскому роману не только «социологическую» прививку, но — что гораздо более важно — историософскую, основанную на решении проблемы: «Бог и Его замысел о человечестве». Здесь значение Гончарова трудно переоценить. Первым это почувствовал Достоевский, также мысливший масштабными религиозно-историософскими категориями.
Что касается изображения внутренней жизни человека, то принято считать, что между Гончаровым и Достоевским существует огромное различие. Не учитывая религиозный настрой Гончарова, сближающий его с Достоевским, невозможно понять, что автор «Обрыва» изображает не только становление, но и испытание души человека. Испытываются многие герои Гончарова — от Александра Адуева в «Обыкновенной истории» до Веры и Бабушки Татьяны Марковны в «Обрыве». Такое же испытание претерпевает Илья Обломов. И не все гончаровские герои это испытание выдерживают. Гончаров и Достоевский по-разному изображают (но не представляют для себя) истину, испытывающую героя. Для Достоевского это — Евангелие, с чётко обозначенным: «Аз есмь истина и путь». Гончаров изображает не Христа и не евангельскую истину в чистом виде. Его сюжет лишён религиозности как таковой. Евангельский свет разлит в его романах. Гончаров проецирует евангельскую истину на обычную практическую жизнь современного человека, взятого не в чрезвычайных ситуациях. Он ставит вопрос о приложении христианства к обычной жизненной практике современного цивилизованного человека. Испытание его героев мыслится как эволюция их внутренней жизни. В зависимости от того, как они его выдерживают, они, между прочим, получают свои фамилии: АД-уев, РАЙ-ский.
И Достоевский, и Гончаров, таким образом, идут от Евангелия. Оставаясь в лоне русской духовной традиции, они оба изображают не только испытание человеческой души, но и её преображение. Евангельская антропология зиждется на следующей модели человеческой жизни: грех — покаяние — воскресение. Так построен роман «Преступление и наказание», где в эпилоге Раскольников берёт в руки Евангелие, воскресая душой от совершённого греха через осознание своего преступления (греха). Так строится и роман «Обрыв», в котором показан не только грех женского (и вообще общечеловеческого) срыва («обрыва»), в основание которого лежит духовная болезнь современного общества (отступление от веры, нигилизм, антихристианство), но и покаяние, и воскресение.