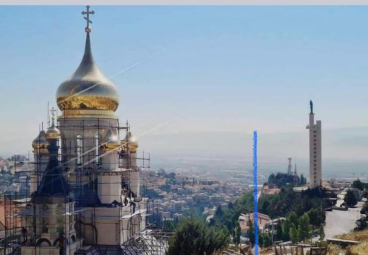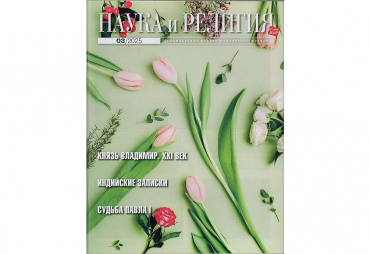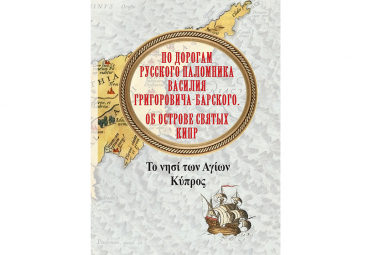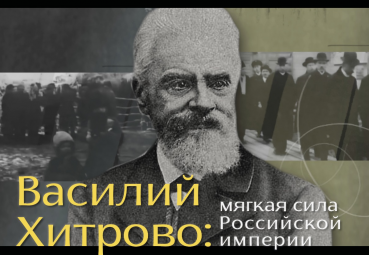Проект Иерусалимского института
Уже в разгар Первой мировой войны, в 1914–1915 гг., группа петербургских ученых и чиновников во главе с сенатором Е. П. Ковалевским ставит вопрос о создании — в рамках Академии наук или в рамках ИППО — Комитета палестиноведения в Петрограде и по окончании войны Русского Археологического Института в Иерусалиме (по образцу функционировавшего в 1894–1914 гг. Русского Археологического Института в Константинополе) (230).
Дальнейшее обсуждение этого вопроса в апреле 1915 г. в Совете ИППО привело к проекту академика В. В. Латышева, отстаивавшего идею организации предложенных учреждений в рамках Палестинского Общества231.
…Небольшое отступление. В январе 1994 г. руководящих лиц ИППО принимал в Иерусалиме помощник премьер-министра Рабина (одновременно военного министра и министра исповеданий) профессор Теодор Липпель, крупнейший знаток археологии Ветхого Завета. Поясняя позицию Израиля в отношении современной деятельности ИППО, он сказал примерно следующее (за буквальную точность не ручаюсь, за смысл — полностью): В Императорском Православном Палестинском Обществе многих (в том числе официальные инстанции) не устраивает, во-первых, что оно «Императорское», в чем просматриваются якобы имперские амбиции, во-вторых, что оно «Православное», что звучит явно неплюралистично для современных, особенно израильских, установок мышления, в-третьих, что оно «Палестинское» — название, отдающее будто бы чуть ли не симпатией к террористам. Думаю, комментарии излишни. Знаю, что есть и в России люди, думающие более или менее аналогично. Но, оказывается, в предреволюционном Петрограде в академических и университетских кругах уже заявляло о себе подобное отношение к Палестинскому Обществу.
Эпизод с обсуждением проекта Русского Археологического Института в Иерусалиме подводит нас к проблеме: какой должна была быть по замыслу основателей востоковедческая научная деятельность ИППО и возможно ли вообще «православное востоковедение». Вопрос, очевидно, непраздный, если в самом конце XX в., как и в его начале, он может ставиться и дискутироваться в международных переговорах и научных изданиях232.
Придется обратиться ненадолго к методологии церковно-исторической науки — именно церковно-исторической. Церковная история в отечественной научной традиции всегда была, по определению Н. Н. Глубоковского (ему доведется в 1921 г. исполнять некоторое время обязанности Председателя Российского Палестинского Общества до избрания нового Председателя, Ф. И. Успенского), «неотъемлемой составной частью русского богословия»233. При этом имелось в виду, что история Церкви призвана быть «не просто бесстрастной повествовательницей о фактах минувшего, но живой апологией христианской истины с ее доктринальными верованиями и конкретными обнаружениями», а критерием «объективно-истинного разумения» почиталась со времен протоиерея Александра Горского православность234. Учениками А. В. Горского церковно-историческая наука поставлена была даже на уровень «матери всех богословских наук», продолжающей сохранять над ними руководство и контроль235.
Подобное понимание с неизбежностью ставило на повестку дня вопрос о конфессионализме и научной объективности. Решался этот вопрос у разных историков различным образом, но, пожалуй, определяющей тенденцией стало, как ни странно покажется это на первый взгляд, отождествление того и другого, попытка осмыслить православный конфессионализм как критерий исторической объективности.
Одним из первых, кто последовательно ставил вопрос о принципиальной необъективности научных построений в области истории, был профессор Петербургской Духовной Академии М. О. Коялович. В предисловии к своей книге «История русского самосознания» автор говорит о неизбежном субъективизме любой исследовательской установки в науке, в том числе в истории. Но среди всех и всяческих «субъективизмов» ближе других к исторической истине, по его мнению, подходит «субъективизм» славянофильского православного типа236. Более основательно, без скидок на «субъективизмы» и славянофильство, писал о конфессионализме в исторической науке представитель той же духовно-академической традиции, отчасти даже ученик М. О. Кояловича, великий церковный историк конца XIX столетия В. В. Болотов Во «Введении в церковную историю» (первом разделе его посмертно изданных «Лекций по истории древней Церкви») теме объективности и конфессионализма посвяшен отдельный параграф. Хотя лекции были подготовлены к публикации учеником и младшим коллегой Болотова профессором А. И. Бриллиантовым, мы с полным правом можем слышать в них голос самого великого историка.
«Собственно в применении к церковной истории вопрос о субъективизме, — говорит автор, — переходит в вопрос о конфессиональном элементе (курсив В. В. Болотова. — Н.Л.). Иногда требуют, чтобы история была не только общехристианскою, но и историею определенного христианского вероисповедания. Требование, предъявляемое в таком объеме, было бы незаконно, потому что история в таком виде сделалась бы полным отрицанием идеи исторического знания. Но в пределах законности конфессионализм историка есть явление вполне естественное и не противное научной объективности»237.
Не очень, конечно, ясно, что имеется в виду под «пределами законности», тем более что и тезис о вероисповедной ангажированности истории отнюдь не очевидно является «незаконным требованием». В общем культурологическом плане мы можем говорить о «православной истории», о «православной науке» вообще с не меньшим правом, как говорим, в шпенглеровском смысле, об «античной геометрии» или «арабской алгебре».
Впрочем, и сам Василий Васильевич пишет абзацем ниже: «История (имеется в виду церковная история. — Н. Л.) имеет своим предметом Церковь, а Церковь есть столп и утверждение истины (I Тим. 3, 15); каждый видит истину в той Церкви, к которой принадлежит, и этот конфессионализм многие считают препятствием для объективности. Между тем, без этого элемента история превращается в нечто бесцветное»238. И далее: «Следовательно, конфессиональность убеждений, вера в истинность своей Церкви может вовсе не препятствовать историку стремиться к истине. А кто задается целью быть совершенно объективным, тот становится на точку зрения для него неестественную, и в сущности быть историком на точке зрения не своего вероисповедания — невозможно. Поэтому историк должен чувствовать себя членом своей Церкви и не должен отступать от церковной точки зрения»239.
Хотелось бы подчеркнуть актуальность последнего тезиса и для нашего времени. Не будем закрывать глаза и тешить себя иллюзией существования в сегодняшней России «церковных историков». В силу известных — как вненаучных, так и научных — обстоятельств их нет. Быть историком Церкви «на точке зрения не своего исповедания», а тем более «на точке зрения атеистической», невозможно сегодня, как невозможно было и во времена В. В. Болотова. (Строго говоря, тезис верен в отношении не только церковно-исторических дисциплин, но обоснование его далеко вывело бы нас за рамки темы.)
Продолжая разговор и сопоставляя типы церковно-исторического знания, присущие каждому из христианских вероисповеданий (католицизму, протестантству и православию), Болотов приходит к поучительным выводам также и по содержательной, не только по религиозно-оценочной, стороне науки. «Значение церковной истории для православного богослова, — пишет он, — больше, чем для католика и протестанта. Для протестанта — это свидетель безразличный; для католика — свидетель, которого часто приходится заставлять говорить то, чего он не хочет. <…> Православный богослов слышит в истории голос Церкви, рассеянный не только в пространстве, но и во времени, — голос ничем не заменимый. Сознание себя не целым, а частью Кафолической Церкви, дает место для правильной оценки других голосов. Для него важны даже свидетельства обществ, не принадлежащих теперь к Кафолической Церкви (автор имел в виду прежде всего коптов, армян, яковитов и другие нехалкидонские Церкви Востока. — Н.Л.), в особенности древние свидетельства, так как эти последние являются голосом Вселенской Церкви»240.
Таким образом, уже к концу XIX в. русская церковно-историческая мысль в лице лучших своих представителей241 пришла к сознанию не конфессиональной окрашенности критерия научной истины, но наибольшей объективной близости и объективной потребности к поиску истины в рамках именно православного исторического знания. Историзм был осмыслен сначала как органическая и неотъемлемая черта культуры христианской, а затем, внутри христианства, как наиболее органичное свойство культуры православной. В. В. Болотов умер в 1900 г. А уже двадцать лет спустя другой крупнейший методолог, Л. П. Карсавин развивает в своей «Философии истории» вполне «большевистскую», в смысле научного максимализма, апологию «православной истории». «Если для понимания истории не безразлично, изучает ли ее индус, китаец или христианин, если не безразличны особенности исповеданий в пределах самого христианства, не может быть безразлично и то, изучает ли историю протестант, католик или православный: степень полноты и истинности в разных случаях неодинаковы. Никого не удивит, хотя многим еще покажется не убедительным, утверждение, что история должна быть религиозною. Но необходимо пойти далее: история должна быть православною (выделено нами. — Н.Л)»242. Подчеркнутое долженствование аргументируется «неравноценностью исповеданий по степени близости к религиозной истине, что и сказывается в большей или меньшей их широте»243. Разумеется, в данных формулировках явственно проступает характер времени — с его «революционным» максимализмом по обе стороны баррикад, но, как и во многих других случаях, духовная ситуация двадцатых годов явилась лишь «повивальной бабкой» для рождения концепций, давно зачатых русской исторической и философской мыслью244.
Но вернемся к дискуссии 1915 г. С точки зрения болотовского «конфессионализма» довольно странно выглядит в Петрограде 1915 г., «при живой» еще Православной Империи и «при живом» Императорском Православном Палестинском Обществе, сама идея Е. П. Ковалевского противопоставить ИППО, в составе которого вполне эффективно действовало научно-исследовательское и издательское отделение (во главе которого стоял в то время академик В. В. Латышев), некий «кружок лиц, интересующихся делами Ближнего Востока», намеревающийся, ни много ни мало, создать в Петрограде некий «независимый» Комитет палестиноведения, а затем в Иерусалиме — «правомочное научное учреждение — Русский Археологический Институт».
Как правильно поняли с самого начала ведущие деятели ИППО, участников «кружка» смущала в первую очередь именно «православная» титулатура Общества. В обоснование стремления обособиться и отделиться от ИППО Е. П. Ковалевский в письме к Председателю Московского Археологического Общества графине П. С. Уваровой представил следующие доводы: «Заботы о паломниках, о святых местах, о просвещении местного арабского православного населения, о народной литературе — умножаются и усложняются. При таких обстоятельствах есть основание думать, что на чисто научные работы Обществу может не хватить времени и средств. Затем, историко-археологические занятия, конечно, не будут ограничиваться христианской археологией. Большой интерес представляет исследование еврейских, языческих и мусульманских памятников, и титул „Православное Общество“ будет служить ему (Обществу) некоторым тормозом для работы указанного рода»245.
Несмотря на то, что в предложенном встречном проекте его автор В. В. Латышев «старался скомпоновать устав Палестинского Общества с уставом Константинопольского Археологического Института, принимая во внимание и desiderata пресловутого „совещания“ Ковалевского»246, и, говоря непредвзято, оба проекта, Ковалевского и Латышева, выглядят как близнецы-братья, оппоненты ИППО быстро свернули дискуссию. «Оказалось, что и в новой редакции, одобренной Советом ИППО, — писал Е. П. Ковалевский вице-председателю Общества князю А. А. Ширинскому-Шихматову в письме от 27 апреля 1915 г., — проекты эти (Комитета палестиноведения и Института в Иерусалиме. — Н. Л.) не вполне соответствуют принятому нами взгляду на научную деятельность предположенных учреждений, и потому собравшиеся (речь идет о не названных ни по числу, ни по именам участниках очередного „совещания" 20 апреля 1915 г. — Н.Л.) пришли к выводу, что в некоторых пунктах мы вряд ли можем найти приемлемые формы к соглашению с ИППО»247.
Два года спустя, в самый канун Февральской революции, члены «кружка», возглавлявшегося Е. П. Ковалевским, «отдрейфовали» все-таки от Палестинского Общества в Императорскую Академию наук. 4 февраля 1917 г. непременный секретарь Академии С. Ф. Ольденбург разослал ряду крупнейших петроградских востоковедов и византинистов проект положения о Палестинском Комитете в составе ИАН248. Наступившая эпоха социальных катаклизмов оставила без последствий этот, как и многие другие, проекты. Основным центром российских исследований по Ближнему Востоку осталось именно Палестинское Общество, хотя и растерявшее постепенно титулы «Императорское» (в марте 1917 г.) и даже «Православное» (в 1918 г.), но сохранившее старые кадры и научный потенциал. Более того, в послеоктябрьские годы в Общество пришли и многие из тех востоковедов, кого смущала до революции его «нелиберальная» титулатура.
«Православное востоковедение», которое развивало и на котором настаивало ИППО, непосредственно связано было с историософской, политической и духовной установкой на работу внутри Православной Империи, которая, в свою очередь, рассматривалась как единственный правопреемственный гарант в поствизантийском пространстве. Наиболее ярко выразил это академик Н. Я. Марр в одном из последних совещаний о будущем Святой Земли, организованных Палестинским Обществом и Министерством иностранных дел в январе 1917 г. — в самый канун крушения Империи. «Раз Россия мировая держава, раз она существует не как ego sum, а как именно Мировая Держава, то в Палестине у нас должны быть права», — утверждал он, поставляя в самую тесную связь укрепление русского научного присутствия на Ближнем Востоке с общей великодержавной внешней политикой России249.
Утверждение Н. Я. Марра справедливо и на сегодняшний день. Императорское Православное Палестинское Общество осознает себя сегодня правопреемником не только по отношению к палестинским и иным зарубежным недвижимостям, но и прежде и более всего по отношению к научным востоковедческим традициям Общества. Кстати, первое не противоречит, но лишь материально обеспечивает второе: для правильного суждения о современных возможностях возобновления российских археологических исследований в Святой Земле следует учитывать состояние российского, государственного и церковного, землевладения в регионе.
___________
Примечания
230. Ковалевский Е. П. Русские научные интересы в Палестине и прилежащих областях // Россия в Святой Земле. Документы и материалы. Т. 1. С. 339—349.
231. Там же. С. 361–366.
232. Беляев Л. А. Христианские древности, Введение в сравнительное изучение. М., 1998 (особенно гл. IV, разделы которой носят выразительные подзаголовки: «Между апологетикой и объективностью», «Конфессиональная опасность» и т. д.); Он же. «Религиозная археология» в русской и зарубежной исторической науке/ Доклад на конференции «Христианство в канун третьего тысячелетия» (Москва, июнь 2000 г.) // Православный Палестинский сборник. М., 2003. Вып. 100.
233. Глубоковский Н. Н. Русская богословская наука в ее историческом развитии и новейшем состоянии. Варшава, 1928. Репринт: М., 1992. С. 50.
234. Там же. С. 52.
235. Формулировка, принадлежащая А. П. Лебедеву. Там же. С. 57.
236. Коялович М. О. История русского самосознания. СПб., 1884. Репринт: М., 1991. С. 3.
237. Болотов В. В. Лекции по истории древней Церкви. СПб., 1907. Т. 1. Репринт: М., 1994. С. 30.
238. Там же. С. 30–31.
239. Там же. С. 32.
240. Там же. С. 36.
241. В. В. Болотов, по оценке Н. Н. Глубоковского, «поднял церковно-исторический научный идеал до чрезвычайности, непосильной для большинства» (Глубоковский Н. Н. Русская богословская наука в ее историческом развитии и новейшем состоянии. С. 58).
242. Карсавин Л.П. Философия истории. Берлин. 1923. Репринт. СПб., 1993. С.171.
243. Там же. С. 172. Подробнее вопрос о "близости к истине" рассмотрен нами в терминах почти соответствующих карсавинской "широте" в работе: Лисовой Н.Н. Православие: византийское, русское, вселенское // Москва. 1999. №1.
244. Другой ярчайший пример - тезис вполне академичного А.Ф. Лосева о непримиримости Православия и Католицизма, "способных только анафемствовать и расстреливать друг друга" (Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М., 1930).
245. Письмо Е.П.Ковалевского графине П.С. Уваровой. 15 января 1915 г. // Россия в Святой Земле. Документы и материалы. Т.1. С. 349-350.
246. Там же. С. 361.
247. АВП РИ. Ф. РИППО. Оп. 873/1. Д.602. Л. 82-82 об.
248. Россия в Святой Земле. Документы и материалы. Т.1. С. 366.
249. АВП РИ. Ф. РИППО. Оп. 873/1. Д.6. Л. 203-204.
242. Карсавин Л.П. Философия истории. Берлин. 1923. Репринт. СПб., 1993. С.171.
243. Там же. С. 172. Подробнее вопрос о "близости к истине" рассмотрен нами в терминах почти соответствующих карсавинской "широте" в работе: Лисовой Н.Н. Православие: византийское, русское, вселенское // Москва. 1999. №1.
244. Другой ярчайший пример - тезис вполне академичного А.Ф. Лосева о непримиримости Православия и Католицизма, "способных только анафемствовать и расстреливать друг друга" (Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М., 1930).
245. Письмо Е.П.Ковалевского графине П.С. Уваровой. 15 января 1915 г. // Россия в Святой Земле. Документы и материалы. Т.1. С. 349-350.
246. Там же. С. 361.
247. АВП РИ. Ф. РИППО. Оп. 873/1. Д.602. Л. 82-82 об.
248. Россия в Святой Земле. Документы и материалы. Т.1. С. 366.
249. АВП РИ. Ф. РИППО. Оп. 873/1. Д.6. Л. 203-204.
теги:
имя ИППО палестиноведение Русский Археологический институт в Иерусалиме история-научная деятельность ИППО
Поделиться: