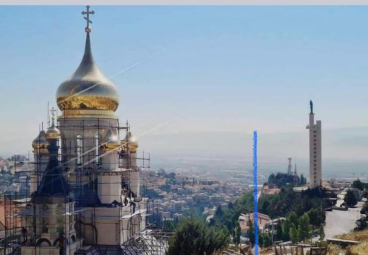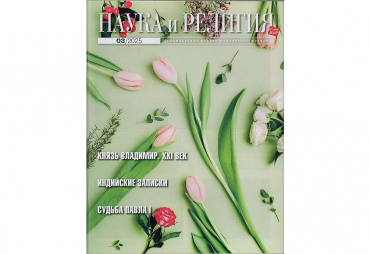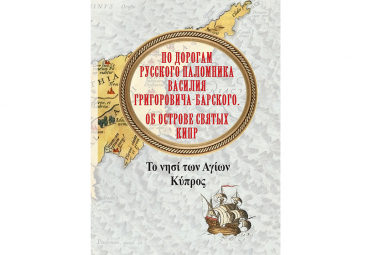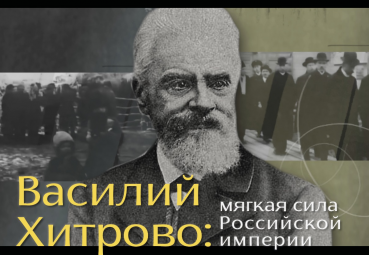Ключ к целостности. Е. Медкова
По романтической программе
Одна из проблем, с которой мы сталкиваемся при выстраивании рассказа о творчестве Н. Н. Ге, связана со стилистической неоднородностью его работ на разных этапах. Мы начинаем метаться от академизма к реализму, затем снова к вечным темам высокого искусства, соединенным с пренебрежением позднего Ге к проблемам формы, с обвинением его в „дилетантизме“ и пр. В результате теряется целостное представление о художнике, о его миссии, о его способе отразить целостно и адекватно мироощущение и мировидение эпохи.
Ключом к целостности является подспудно существующее даже в самых реалистических работах художника романтическое мировидение, незримо управляющее его творческими импульсами и решениями. В советский период, когда аксиомой считалась абсолютная принадлежность Ге передвижничеству и реализму, ряд исследователей, таких как Я. Лубенцов и Н. Коваленская, осторожно замечали, что „драматический конфликт, впервые возникший в ранних итальянских эскизах, утверждается в творчестве Ге, чтобы остаться навсегда его ведущей темой“.
Н. Зограф уже напрямую пишет, что новое демократическое искусство „не только опиралось на традиции реалистического жанра, но и осваивало романтическую программу, как она преломилась в творчестве крупнейших мастеров первой половины ХIХ века – К. Брюллова и А. Иванова… Под непосредственным влиянием искусства Брюллова в первые годы пенсионерства в Италии усвоил Ге романтические традиции, которые на всю жизнь оставались важнейшими элементами его творческого кредо“.
Д. Сарабьянов оценивает реалистические исторические работы Ге скорее как эпизод. Он пишет, что „в момент подчинения своей живописной манеры передвижническим принципам Ге создал несколько картин на конкретные сюжеты… но скоро художник истощил свои возможности на этом пути“. Так что если мы сможем вычленить некие фрагменты программы романтизма, а также некие формальные константы, присущие мировидению этого направления в творчестве Ге, то у нас получится представить его как единое целое, обладающее внутренней целью, закономерностями и структурой.
Прежде всего зададимся вопросом: каким багажом обладали европейские и отечественные мастера, приступая к решению глобальных проблем романтизма: двоемирия; антагонизма мира дольнего и мира горнего; проблемы индивидуалистического бунта, в котором человек посягнул на Бога-Творца и установленные им законы бытия и морали. Начиная с эпохи Возрождения в западном европейском искусстве происходили процессы перераспределения ролей между Богом и человеком: третье лицо Троицы, Бог Сын, стремительно сближался с человеком, все более обнаруживая свою человеческую сущность, в то время как ренессансный человек возносился до высот Богочеловека. В результате западная культура пережила смерть Христа в скульптурах позднего Микеланджело („Пьета“, 1499) и в потрясающем по безнадежной жестокости „Распятии“ Грюневальда. В эпоху барокко Бог удалился от человека на невообразимую дистанцию. Герои Байрона – Дон Жуан и Каин – уже спорят с Творцом, а человек Делакруа вступает в ожесточенную схватку с онтологическими стихиями и энергиями природы и истории.
В XIX в. Ф. Ницше констатировал „Смерть Бога“ и рождение нового сверхчеловека. В русской православной культуре, не пережившей собственного Ренессанса, сама тема смертности богочеловека была запретной, а соборность гасила проявления индивидуализма. Божественная сущность в принципе была нетленной, о чем свидетельствует вся иконописная традиция. Античное наследие калократии в иконописи встретилось в классицизме с реставрированным культом античной красоты и блокировало нисхождение Христа до своей человеческой природы.
Таким образом, именно романтизм с реализмом в русской культуре унаследовали проблемы расчистки территории для встречи человека с самим собой, без посредничества и защитной поддержки Бога. Ге, по существу, в одиночку вынес эту неимоверно тяжелую ношу и проложил в русской живописи дорогу для героев ренессансно-романтического величия, могущества и индивидуалистического трагизма, таких как Демон, Гамлет, Фауст, С. Мамонтов М. Врубеля.
Доминанта тьмы
Тень смертности пала на Христа уже в первой крупной работе Ге, в его „Тайной вечере“. Впервые в русской живописи Христос, его лик покрылся тенью праха земного. Доминантой картины Ге является тьма. Исчез вечный свет золота иконы, не излучает света лик Бога, даже простой дневной свет ренессансной условности, как на фреске Леонардо, показался Ге неуместным. Тайная вечеря вошла, с одной стороны, в реальность ночи, а с другой – в негатив теневого мира романтизма. В этом фантомном мире Свет не в силах разогнать Тьму. Наоборот, он только порождает еще более чудовищные сгустки тьмы воздвигающихся за спинами апостолов теней.
Парадокс картины в том, что именно в свете обретает грозное величие фигура Иуды – гигантский фантом с неопределенным, неструктурированным силуэтом, будто бы порожденным самим Хаосом. Картина Ге вся инверсионна по сравнению с картиной мира, воздвигнутой традицией. Фигура Христа уже не является столпом мира, мировой осью (ср. со структурой иконы, с „Тайной вечерей“ Леонардо, „Христом в Эммаусе“ Рембрандта). Христа поглотила горизонталь земного бытия, тяжелых раздумий и сомнений, предстоящей муки смерти.
В теневом антимире картины Ге функции вертикали приняла на себя Тень Иуды, кажущаяся еще выше из-за поднятых рук, которыми он набрасывает на голову покрывало. При этом она каким-то ползуче змеиным манером (обратите внимание на „змеиный“ хвост покрывала) смещается вправо, обрушивая привычную симметричную устойчивую композицию миропорядка.
Расположение Иуды в правой части картины, за которой традицией была закреплена зона повышенной сакральности, света и надежды, – еще один признак перевернутости картины мира, представленной Ге. По существу, используя формы академической и частично реалистической живописи, Ге с помощью последовательно проведенной инверсии изнутри разрушает гармоничный миропорядок. Именно в этом источник того тревожного, гнетущего чувства, которое излучает картина.
Все сместилось, устои пошатнулись. Бог как гарант торжества справедливости начал свой исход из мира, а человек стремительно двинулся навстречу самому себе, чтобы в конце века встретиться с отчаянием своего одиночества во вселенной. Все остальные интерпретации – связь с многочисленными драмами предательства в русском и западном революционном движении того времени (предательство В. Костомаровым Чернышевского), проблема выбора между религиозно-моральной правдой Христа и национально-политической правдой Иуды – всё это вторично перед фактом осознания смертности богочеловека и окончательным разрушением в русском сознании извечной защищенности человека искупительной жертвой Христа.
На путях самопознания
Далее в евангельской линии творчества Ге всё идет по нарастающей. В картинах „Христос и Никодим“, „Что есть истина?“, „Голгофа“, „Распятие“ физическая хрупкость и телесная уязвимость Христа нарастают. Это особенно заметно в работе „Что есть истина?“ на контрасте мощной пластики фигуры Пилата и бестелесной хрупкости цветной тени Христа.
Противопоставление материальности пластики и нематериальности пятна как символа духовности – такая расстановка уже встречалась в истории искусства при формировании символических кодов средневекового искусства, однако в том случае дух уходил в свет бессмертия и вечности (например, в раннехристианских мозаиках), а у Ге он уходит в тень смертности человеческой жизни.
Даже когда Ге возвращает в картину „Голгофа“ свет, он это делает абсолютно на иных основаниях. В жесте Христа, закрывающего лицо руками от беспощадных лучей солнца, сосредоточено всё отчаяние перед страшной реальностью света, несущего смерть своим иссушающим жаром. В начале века Гойя в картине „Расстрел повстанцев в ночь на 3 мая 1808 года“ открыл смертоносную сущность искусственного света лампы, в конце века Ге переосмысливает сущность некогда благодатного и священного светила. В веке двадцатом лампа/божественный глаз/солнце в картине Пикассо „Герника“ станет знаком гибели мира. Воистину пророческие прозрения Ге поражают. Рукою римского легионера он властно указывает нам на новую сущность мировой вертикали – в „Голгофе“ Христос вновь занял традиционно подобающее место в центре мироздания, но это уже не Бог, а человек страдающий, наедине с неизбежностью финала своей жизни и судьбы.
Вид разрушаемой смертью плоти и физических страданий Христа на кресте последних „Распятий“ был просто нестерпим, и общественное мнение сопротивлялось этому как могло. По свидетельству А. Волынского, работы Ге вызывали недоумение, их „поразительное внешнее безобразие, мучительно ударяющее по нервам, казалось компетентным людям совсем неподходящим для выражения нравственного обновления“.
Но художник был настойчив в исполнении своей миссии „сотрясти все их мозги страданиями Христа… заставить рыдать, а не умиляться“, через личное человеческое страдание и смерть Христа донести до каждого идею индивидуальной ответственности за все страдания мира, в том числе и страдания Христа, разрушить психологические механизмы соборной ментальности и тем самым освободить индивидуальность человека.
Спрашивается – зачем? В ответ хочется привести слова современного французского философа Ж. Делеза о смерти Бога у Ницше и смерти человека у Фуко: „На самом же деле речь не идет о человеке как о чем-то составном. Речь идет о составляющих силах человека: с какими другими силами они сочетаются и какое соединение из этого получается? В классическую эпоху все силы человека соотносились с одной-единственной силой, силой „репрезентации“, которая притязала на то, чтобы извлечь из человека всё, что в нем есть позитивного или же возвышаемого до бесконечности. В результате получалось, что совокупность таких сил образует Бога, а не человека, и человек мог предстать только между порядками бесконечного“.
Разрушение этого порядка, по мысли Ж. Делеза, приведет к тому, что „силы человека войдут в контакт с еще какими-нибудь силами, так что на этот раз получится „нечто иное“, что не будет ни Богом, ни человеком: похоже, что смерть человека следует за смертью Бога в интересах новых составляющих“. В случае с творчеством Ге можно сказать, что он открывал перед человеком в русской культуре пути глубинного самопознания личности.
Основной прием
Итак, на примере реализации евангельской темы в творчестве Ге мы выяснили, что главной темой художника было очеловечивание и смерть богочеловека во имя осознания человеком личной индивидуальной ответственности за все в этом мире, а основным творческим приемом воплощения этой темы стали инверсия романтического двоемирия и архетипический образ Тени. Так каким же образом в эту систему вписывается его знаменитое реалистическое произведение „Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе“?
Опустим достоверность исторических и психологических деталей и посмотрим на картину с более общих позиций.
Кто такой Петр в истории русской культуры? Это, по существу, возникший прямо из Средневековья, содеявший себя и свою вселенную ренессансный человек в русском издании, то есть богочеловек на всех просторах России – властная божественно-государственная вертикаль мироздания Российской империи. Это то, что взросло на почве соединения противоестественного рывка России в реальность Нового времени и по-русски, самодержавно понятого индивидуализма.
Ге со скрупулезностью психоаналитика исследует феномен масштабного индивидуального эксперимента и обнаруживает ту бездну, которая скрывается за светлой идеей самостийности личности. Он недаром выбирает местом действия Петергоф – чистую, эстетизированную модель нового мироздания, созданного волей самодержца. В ней всё упорядочено и расчерчено до умопомрачения: картины – в ряд, стулья – в ряд, пол – в шашечку, даже люди сами по себе распределяются симметрично. Чего еще может желать Творец этого идеального миропорядка?
Его индивидуальная воля нашла полное воплощение, однако за счет отрицания собственного прошлого, прошлого своей страны, своего естества. Согласно Юнгу, если человек не желает осмыслить и принять те черты своей личности, которые он считает неприемлемыми, то они появляются в виде его двойника, в виде его Тени, тем более реальной, чем сильнее происходит процесс ее вытеснения из сферы сознания.
Такой Тенью, наваждением и проклятием для Петра становится его сын, не разделявший его реформаторских деяний. Он сумрачное, подавленное подсознание Петра – недаром это подчеркивается даже в названии картины, в котором последовательно возникает „Петр… Петрович“. Ге понял это своей интуицией романтика, для которого категория Тени была не меньшей реальностью, чем картинная галерея в Монплезире.
При всей достоверности обстановки картина Ге преисполнена символики и знаковости романтизма. Чего только стоит траурная оппозиционность черного и белого в сумрачном колорите картины. Здесь белый цвет – это и свет нового дня, и знак смерти на лице Алексея, а черный – и скрепы нового рамочного порядка, охватившего реальность наподобие рам картинной галереи, и тьма неизбывного ужаса. Между трауром черного одеяния царевича и жизненностью зеленого цвета формы Петра красной кровью растекается ковер на столе.
Композиция при полной симметричности лишена вертикального стержня, в результате чего возникает ощущение колебательного движения между двумя центрами – колебание символических весов судьбы. Энергичная пластика фигуры Петра противопоставлена плоскостному силуэту фигуры Алексея, дырявящей ткань реальности черным провалом, в который утекает жизнь.
Неустойчивая фигура царевича Алексея – воплощенная неудача теургических усилий богоравного в акте творения человека. В древних мифах боги безжалостно уничтожали свои неудачные модели людей. Библейский бог был милостивее и ограничился изгнанием из рая, а затем пожертвовал Сыном ради искупления человечества. Человек, заместив Бога, воспроизвел более древнюю и безжалостную схему, однако и расплатился собственной плотью без перспектив воскресения и искупления собственного греха.
Ге, верный основной идее своего творчества и своей миссии, простраивает возможные варианты свободного волеизъявления человека, его просчеты, приобретения и потери. В его глазах индивидуалистический эксперимент Петра достоин и уважения, и сожаления. Сам же Ге, исследовав один из вариантов сопряжения человека с „новыми составляющими“, от своей миссии не отступил и довел ее до конца.
Как было упомянуто выше, его духовным преемником на столь трудной стезе стал М. Врубель.
Литература
Зограф Н. Ю. Введение // Николай Николаевич Ге. Письма, статьи, критика, воспоминания современников. – М., 1978.
Коваленская Н. Н. Н. Н. Ге // История русского искусства/ Под ред. И. Э. Грабаря. Т. IХ. Кн. I. – М. 1965.
Сарабьянов Д. В. Изобразительное искусство России. Живопись // Е. П. Львова, Д. В. Сарабьянов, Е. А. Борисова, Н. Н. Фомина и др. Мировая художественная культура. ХIХ век. Изобразительное искусство, музыка, театр. – СПб., 2007.
Елена Медкова,
научный сотрудник ИХО РАО
Газета Искусство № 20 2009 г.
Поделиться: