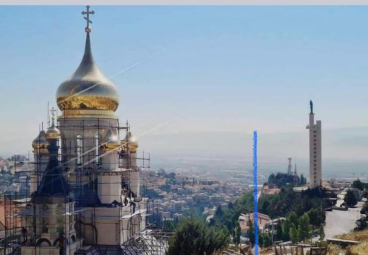Две эпохи - два «Добротолюбия»: преподобный Паисий Величковский и святитель Феофан Затворник. Н.Н. Лисовой
Я рад возможности выступить с докладом о святителе Феофане Затворнике именно в этом зале, в этом здании. Начну, с Вашего позволения, с небольшого автобиографического воспоминания.
Как в известном
фильме говорится, «место встречи изменить нельзя». В 1969 году, то есть
43 года назад, я пришел к Владыке Питириму, еще не сюда, на Погодинскую
улицу, а, как Владыка любил говорить, в кладовку Успенской церкви,
потому что редакция Издательства Московской Патриархии располагалась
тогда в подсобке Успенского храма Новодевичьего монастыря. Владыке было
тогда 43 года, и, поглаживая тогда свою начинавшую седеть бороду, он
важно сказал: «Ну, мне уже поздно заниматься богословием, мне уже 43
года, теперь ваше время». Это было ровно 43 года назад. А почему я
вспомнил об этом — потому что при первой же нашей встрече разговор,
конечно, коснулся святителя Феофана Затворника. Мы уже тогда его
называли святителем, за много-много лет до его официального прославления
в лике святых Русской Православной Церкви. Я вам могу показать: вот
первая богословская книга… Знаете, как литературоведы любят говорить
«мой Пушкин», «мой Достоевский», вот — мой Феофан. Вот с чего начинался
мой Феофан! — из бабушкиной плетеной корзины эта книга «Письма в Бозе
почившаго епископа Феофана» Тамбов, 1897 год. Таких книжек у меня
несколько осталось — из библиотеки моего деда по маме, священника
Никанора Немчинова. А дедушка, в свою очередь, был племянником
архиепископа Димитрия (Самбикина). Поэтому на книге еще и рука Владыки
Димитрия, который пометил (тогда он еще епископом был): «епископ
Димитрий». Так вот, это была первая богословская православная книга,
которую я читал еще в юности. Поэтому, когда я пришел к Владыке
Питириму, разговор у нас о святителе Феофана и начался. А потом, через
пару дней, я был у него дома, на Часовой, он мне вынес и показал посох —
простой, белый, только с круглым яблоком, безо всяких украшений посох,
но зато выточенный руками самого святителя Феофана. Это была одна из
святынь, которые хранил у себя покойный Владыка Питирим.
Вот с этого времени начался «мой Феофан». Два года спустя, в 71-м году, в каникулярное время — летом, я отправился по следам его служения, в Тамбовскую епархию, в Тамбов, потом поехал на Вышу. Я взял просто карту, из Тамбова ветка железнодорожная до Выши, приезжаю на Вышу, а мне говорят: «Нет, парень, ты не туда приехал, эта Выша Мордовская, а тебе нужна бешеная Выша». Я говорю: «А как туда, до этой бешеной добраться?». Они говорят: «Надо доехать до Сасова, от Сасова автобусом до Шацка, а от Шацка уже рукой подать до Выши». Я проделал весь этот путь, приехал на бешеную Вышу, ночевал в самом монастыре у сторожа (сторож меня пустил в свою сторожку). Сумасшедшие, которые были насельниками Вышенской пустыни, в это время разбирали колокольню по кирпичику… Побыв там, помолившись, помянув святителя Феофана, я пошел прямо через лес, чтобы скорее выйти к железной дороге. Прошел километров пять — навстречу мне мужичок на телеге: совершенно некрасовская картина. Мужичок говорит: «Парень, ты только вот там, за поворотом обойди, там у них кордон, они тебя вернут». Я говорю: «Как это?». «Ну, там кордон, — говорит. — Там сумасшедших, которые бегут из монастыря, возвращают обратно».
Вот таковы были мои первые подвиги в плане ознакомления с этой темой и попытки пройти стопами самого святителя Феофана. Это в порядке автобиографического, немножко шутливого введения (святитель простит, я думаю, эту шутливость), а если говорить по-настоящему, то, конечно, святитель Феофан Затворник — это одна из грандиознейших фигур русского богословия и русской духовной культуры в целом. Дело в том, что по-настоящему весь XIX век был временем — может быть, это кому-то покажется слишком парадоксальным, заостренным немножко, — но весь наш XIX век и начало XX — все это было временем возвращения Русской Церкви к святоотеческому Православию. Потому что в истории Русской Церкви был, как известно, перелом, связанный с Петровской эпохой, с синодальным периодом, с Духовным регламентом, — я не буду об этом говорить. На эту тему много наговорено историками и справедливого, и несправедливого, это не для сегодняшнего нашего разговора, но во всяком случае тот факт, что возвращаться к святоотеческому Православию пришлось, не подлежит сомнению. Практически между двумя именами, которые я поставил в заголовок доклада (то есть, между именами Паисия Величковского и Феофана Затворника), обозначена магистральная линия развития не просто русского монашества (иногда думают: «Ну да, вот реформа русского монашества, которую провел Паисий Величковский, вот то-то, то-то»), нет, не русского монашества, не даже русской аскетики, как таковой (хотя я сейчас немножко скажу и об этом, и о том, чем, собственно, различаются два «Добротолюбия», чему и посвящен доклад). На самом деле это была магистральная линия развития Русской Церкви, русской богословской мысли — вот это самое важное.
Действительно, святитель Феофан был подготовлен к этому всем своим предыдущим служением (а он уже до этого прошел и служение в Иерусалиме, в Русской Духовной Миссии, где в Лавре преподобного Саввы Освященного впервые познакомился с древними списками святых отцов, которых потом будет переводить и издавать). Это и служба в духовных академиях, сначала преподавателем, потом ректором духовной академии, и пребывание на должности настоятеля константинопольской русской Посольской церкви — всем своим восхождением святитель Феофан был подготовлен к тому, чтобы однажды, вдруг, отбросить все, в том числе даже и очень важное и очень почтенное архиерейское служение, сложить с себя все обязанности. Несколько лет он «бомбардировал» Синод своими прошениями об уходе. Ему не разрешали, пока, наконец, в 1866 году не ушел он в ту самую Вышу или, как он говорил, «на ту самую Вышу», потому что, Вышу, как он говорил, можно променять только на Царство Небесное, и не занялся… Чем же он занялся — вот это очень интересный вопрос… Многие считают, что это был аскетический шаг. Святитель Феофан этого не подтверждает. В одном письме он даже прямо говорит: «Причина моего ухода не аскетического свойства, это у меня не затвор, а запор».
Он ушел, чтобы ему не мешали работать. Когда однажды, в 1852 году, по болезни архимандрита Порфирия Успенского ему грозило назначение начальником Миссии, хотя бы временное, он тут же написал письма, куда только мог: и в Константинопольское посольство, и в Министерство иностранных дел, и в Синод о том, что не может, никак не справится, к этому не готов и не хочет этого и так далее… и его действительно не стали трогать и не стали назначать. И точно так же он рассматривал свое архиерейское служение, хотя успел даже побыть на двух кафедрах: на Тамбовской и на Владимирской. Он хотел, чтобы его оставили в покое, и, уединившись на Выше, он начал работать. Он работал и раньше, конечно, но возьмите и сравните, скажем, его лекции в Петербургской духовной академии, которые были потом изданы («Введение в аскетику», «Путь ко спасению» классический), посмотрите, насколько они академичны, они сухи — в них еще практически нет будущего святителя Феофана, и посмотрите, чем кончает святитель Феофан, посмотрите его «Добротолюбие», посмотрите его письма, посмотрите его поздние писания: это полная благодать и свобода — вот две стихии Феофана, полная свобода: хочу — перевожу точно, хочу — пересказываю, хочу — выбрасываю половину из семи сотниц Максима Исповедника, потому что считаю, что они слишком сложны, и, может быть, в этом смысле, не очень полезны современному российскому читателю. На самом деле такого свободного богослова, каким был святитель Феофан, мы, наверное, не знаем. В какой-то степени таков тоже великий в области каноники и отчасти гомилетики Иоанн Смоленский. Иоанн Смоленский с такой же свободой мог богословствовать в области канонического права — это до сих пор не оценено по-настоящему в нашей богословской литературе. А Феофан работал именно в области аскетики, в области того, что мы называем, по академическим градациям, нравственным богословием и патристикой, переводом святых отцов.
С этой точки зрения необходимо рассмотреть, чем же отличаются два «Добротолюбия». Я не буду говорить — это слишком много времени бы заняло — не буду говорить, даже кратко, о том, что такое вообще «Добротолюбие». В принципе, мы все это знаем. Это великая книга, это энциклопедия не только умной молитвы, но всего монашеского, а может быть и всего христианского делания. Она сложилась, как поэт Максимилиан Волошин сказал бы, в раскаленных горнах Византии. Сейчас уже известны сборники афонского, византийского происхождения, из которых потом кристаллизовалась «Филокалия» Макария Коринфского и старца Никодима Святогорца. Но очень важный момент: когда преподобный Паисий делал свое «Добротолюбие», еще не было ни Макария Коринфского, ни Никодима Святогорца. И более того, Никодим Святогорец, как известно, когда появился на Афоне, одно время хотел стать учеником Паисия Величковского. Паисий Величковский просто как бы кристаллизовал то же самое, практически то, что некоторые греческие богословы сейчас называют «филокалическое движение». Оно кристаллизовалось постепенно в тех или иных трудах, книгах, многотомниках. И тот же самый Никодим Святогорец не только «Добротолюбие» составлял вместе с Макарием, он и «Евергетин» сделал, он и другие книги писал, и святоотеческие хрестоматии составлял. Это был общий творческий порыв Православной Церкви. И порыв этот (так же, как и нашей Русской Церкви, который чуть позже произойдет — он смещен буквально на десятилетия) — порыв к возвращению к святым отцам. В самом деле, и у греков произошло отступление от святоотеческого опыта — ведь греки, после того как пала Византийская империя и как, по существу, просвещение греческое сместилось в Италию, оказались под большим влиянием итальянским, и католическим, в частности. Неслучайно у нас раскол произошел в XVII веке именно из-за того, что никоновские справщики неразумно решили править по венецианским изданиям. У греков тоже были проблемы! И вот к концу XVIII века возникает эта филокалия греческая, и возникает она параллельно с «Добротолюбием» русским — с первой редакцией «Добротолюбия», в которой был еще церковнославянский по языку перевод преподобного Паисия.
Проходит почти сто лет (переводы Паисия — это 60-е, 70-е годы XIX века)… Нужно сказать, что преподобный Паисий не очень высоко ценил свои переводы. Он писал в Петербург и просил передать первенствовавшему тогда члену Синода митрополиту Гавриилу, что лучше не его переводы издавать, а перевести вышедшую в 1782 году в Венеции греческую «Филокалию». Так считал сам Паисий, но его не послушались. Взяли его переводы, правда, сильно их подредактировали, так что местами они стали похожи на «телеграфный столб». Что такое «телеграфный столб»? Это хорошо отредактированный дуб. Вот так и отредактировали местами Паисия Величковского. Ему вообще не везло в этом смысле и дальше. Его будут редактировать все время, за исключением оптинских изданий (это особый разговор).
Но вот, сто лет спустя после паисиевских переводов, возникает вдруг перевод феофановский. Он возникает именно вдруг. Феофан, по существу, даже еще не уйдя в затвор (по-настоящему в затвор он уйдет с Пасхи 1872 года), вдруг решил, что надо заняться чем-то душеполезным. И так, чтобы это было душеполезно не только для него самого, но и для читателя. И затвор у него был нетипичный. Он с собой в затвор взял и токарный станок, и всю свою большую библиотеку, и фисгармонию, и скрипочку приказал купить, привезти ему. Он сам в шутку говорил: «Задуваю фисгармонию — скоро все монахи разбегутся». На самом деле затвор был творческий, это была творческая лаборатория. И начинает он почему-то именно с «Добротолюбия». Почему — это тоже интересно. Особенно это интересно с точки зрения теории перевода, а тут мы касаемся именно этой области… Вообще, когда мы говорим о борьбе за русское богословие, которая осуществлялась в XIX веке, очень важен вопрос языка. Национальная концепция всегда зависит от выбора языка. Для национальной концепции в области богословия (а священномученик Иларион Троицкий в свое время сказал, что это есть именно «борьба за освобождение русского богословия») тем более важен выбор языка. В каком смысле? Например, существует какая-либо языковая традиция — греческая, латинская, церковнославянская и русская, современная, и я хочу перевести для вас какие-то тексты. Чем моя школа перевода определяется? Она определяется тем, какие исходные тексты я беру, то есть с какого языка перевожу. Буду ли я переводить только с греческого, буду ли переводить только новогреческие издания, или буду переводить и с латинского тоже, если у меня нет каких-то святых отцов в греческом переводе под рукой? Это — то, с чего я перевожу.
Второй момент — на какой язык я перевожу? Я могу переводить на церковнославянский, более или менее строгий, могу переводить на «полуславянский», как архимандрит Леонид Кавелин говорил про паисиевский язык (это уже все-таки не чистый, настоящий славянский, но перевод «под церковнославянский»), а могу переводить на современный русский. Разумеется, не так, как сегодня у нас переводят — на современный газетный язык, а на классический русский XVIII — начала XIX веков. Так, например, был осуществлен Синодальный перевод Библии — с максимальным сохранением там, где это возможно, всех языковых архаизмов, но, тем не менее, на современный, понятный русский язык.
И третье — для кого я буду переводить? Я буду переводить только для ученых богословов, которые хорошо знают материал, умеют работать с аппаратом и так далее? Или я буду переводить для монахов, которые совершают свой подвиг, и им нужно пособие для этого? Или я буду переводить для современного светского читателя, чтобы привлечь его, зажечь его этим святоотеческим наследием, этим благодатным влиянием? Это разные вещи. И вот с этой точки зрения наиболее резко разделяются перевод преподобного Паисия, «Добротолюбие» Паисия и «Добротолюбие» святителя Феофана. Преподобный Паисий переводит для монахов и только для монахов, у него даже есть прямые указания внешним не давать читать перевод — внешним это вредно. Кстати, есть знаменитое выражение святителя Филарета (Дроздова), который скажет: «Пусть лучше темное останется темным, но мы должны перевести так, как есть». А лучше всего говорил преподобный Макарий Оптинский, который заметил о переводе творений одного святого отца: «Опаснее всего, что мы свое гнилое слово поставим на место его высокого духовного разумения». Святитель Феофан пишет для широкого читателя и, более того, как справедливо уже указывалось здесь, для светского читателя. Феофаново «Добротолюбие» рассчитано на современного светского русского читателя.
С каких языков переводят «Добротолюбие»? Преподобный Паисий переводит только с греческого. И более того, поскольку он первое время еще плохо знал греческий язык (как известно, он даже академию киевскую не кончил — бежал из нее и ушел в монахи на Афон), то пользовался румынскими переводами, поскольку, как он считал, румынский знал лучше. Преподобный Паисий дальше греческих источников принципиально не шел — переводил только с греческого. Святитель Феофан же переводит, например, «Невидимую брань», которая есть вторичная перелицовка. Уже преподобный Никодим Святогорец ее перевел с католического пособия, а Феофан, в свою очередь, перевел никодимовскую, окончательно сделав ее православной. Это значит, что некоторые главы, скажем, главы 43—56 «Об умной молитве» переписаны им полностью — они просто ничего общего не имеют ни с Никодимом, ни, тем более, с католическим оригиналом. Однако он и от этих источников не отказывается. Более того, по его переписке мы видим: когда он делает IV том «Добротолюбия», и ему никак не присылают афонские старцы греческих списков преподобного Феодора Студита, святитель предлагает: «если у них нет, я буду с латыни переводить», но отмечает: «это заведомо будет вторично и хуже». И он все-таки дождался, пока ему прислали нужные списки, хотя это сильно задержало издание. Как известно, святитель Феофан работал над «Добротолюбием» практически 25 лет. Конечно, иногда он отвлекался на другую работу — просто потому, что у него под рукой чего-то не было или, например, афонские старцы встали насмерть и отказались печатать второй том подготовленного им «Добротолюбия», который включал уставы. Он уставы издаст, как известно, отдельно. Но он десять лет за это боролся. И вот такой подход к тексту «Добротолюбия» тоже очень интересен. Если преподобные Никодим, а за ним и Паисий следуют общей структуре и составу греческого «Добротолюбия», то святитель Феофан подходит по-авторски, он заявляет свои авторские права и прямо пишет иеросхимонаху Арсению (Минину), афонскому старцу, который руководил подготовкой издания, что будет переводить, только если афонские старцы согласятся на его структуру «Добротолюбия» и на его подход. Это с самого начала было у него установкой. Подчеркиваю — очень важно, что мы говорим здесь об исходной установке, то есть о школе перевода.
Следующее: на какой язык переводилось и как переводилось «Добротолюбие»? Довольно естественно, что преподобный Паисий переводит на церковнославянский язык, а принцип перевода у него — калька, пословный перевод, и даже более того, как лингвисты в таких случаях говорят, поморфемный перевод. Я не буду сейчас входить в лингвистические примеры, но, скажем, если греческое слово имеет приставку, корень и суффикс, он воспроизводит его структуру: приставку, корень и суффикс. Поэтому в таком переводе получаются иногда термины-кентавры, которых не понимает даже современный богослов. Ведь если не сопоставить подобные слова с исходными греческими, их невозможно перевести. Образно выражаясь, принцип буквализма здесь «возведен в самую суть бытия».
У святителя Феофана совсем по-другому. Если он встречается с каким-то сложным, непонятным местом, которое трудно буквально перевести на русский язык, то обсказывает его, используя современный язык и современный понятийный богословский аппарат — независимо от того, что перевод будет не очень похож на язык какого-нибудь аввы VII века. Пусть будет не похоже — он обсказывает. Как правило, он достаточно точен. При этом святителя Феофана обвиняли в неточности все на свете. В 1903 году по поводу сделанного им перевода творений св. Диадоха Фотикийского, профессор И. В. Попов пишет, что якобы Диадох плохо переведен; отец Павел Флоренский упрекает его за неточности в переводе. И у наших современников — вплоть до Алексея Ивановича Сидорова и Бибихина — утвердилось мнение, что он неправильно перевел творения святителя Григория Паламы…
Как нам представляется, дело в том, что святитель Феофан вообще не переводил в привычном для нас смысле. Он создавал свой святоотеческий текст. Это принципиально другая установка! Точно так же, как мимо цели бьет, например, указание преподобного Амвросия Оптинского, который в ответ на вопрос, за что же так критически относился святитель Феофан к преподобному Игнатию Брянчанинову, говорил: «Ну как же — за что? А за то, что Игнатий неточно переводил святых отцов». Нет, не за это. Ведь Феофан точно так же неточно их переводил. Не буду сейчас входить в подробности, за что святитель не любил Игнатия Брянчанинова: это другой вопрос. Дело именно в том, что оба они — и Феофан, и Игнатий — создавали свои тексты. Они сами есть русские святоотеческие тексты. И вот этим, главным образом, и отличается «Добротолюбие» Паисия Величковского от «Добротолюбия» Феофана Затворника.
Еще сыграли свою роль личные особенности — куда же без человеческого фактора даже и в самом святом деле. Ведь и четыре евангелиста друг от друга отличаются. Посмотрите, как работает преподобный Паисий. Он тоже 25 лет трудился над своим «Добротолюбием». Так вот, 25 лет он раз за разом возвращается к одним и тем же переводам. Нашел новую рукопись — сверяет, переводит заново, уточняет — и так далее, постоянно. А святитель Феофан как говорит? «Писать надо в один присест, иначе нерентабельно». И второе знаменитое выражение: «Книжечка должна быть пистолет духовный — что ни страница, то выстрел». Здесь мы видим нетерпение его, эту свободу, это его желание успеть дать читателю книгу… А почему успеть? Потому что, опять-таки, здесь уже говорилось о том, что ситуация в духовном плане тяжелая — Россия катится в пропасть, России надо поставить заслоны. Все об этом думали в то время: Достоевский об этом думает, Владимир Соловьев об этом думает. Константин Леонтьев говорит: «надо подморозить Россию», говорит, что есть эпохи, когда лучше быть парусом, а есть эпохи, когда благороднее быть якорем. И вот с этой точки зрения святитель Феофан тоже торопится: ему нужно поставить преграду мутной волне, которая вот-вот уже снесет Россию, и действительно снесет — буквально вскоре после его смерти. Поэтому ему некогда работать за целый академический институт и стараться перевести и прокомментировать каждый греческий термин и каждую особенность его перевода. Он делает совсем другое «Добротолюбие», не только в сравнении с паисиевским, а в сравнении с греческим. У него по составу отличается «Добротолюбие», у него по логике отличается «Добротолюбие». Это настоящий русский богословский вклад, это русское святоотеческое богословие.
Конечно, при том, что я уже сказал, необходимо помнить, что есть две эпохи, два «Добротолюбия», но одна церковная и духовная традиция. Ведь и преподобный Паисий Величковский и святитель Феофан Затворник — представители одной духовной традиции. Просто разное время, и это надо понимать. Мы иногда сегодня берем одну книгу, рядом с ней открываем другую и сравниваем. Не так надо сравнивать! Переселись в XVIII век, когда работал преподобный Паисий, и оттуда — в конец XIX, когда работал святитель Феофан. Вот как надо сравнивать! Это разные эпохи, разные ситуации! Сегодня уже говорилось, в какой трудной духовной ситуации жила Россия в эпоху святителя Феофана Затворника. Это совсем другое время, чем эпоха преподобного Паисия Величковского, который сначала на Афоне, а затем у себя в Нямецком монастыре мог благодушествовать, собирать вокруг себя монахов и думать, что это навсегда. Святитель Феофан уже не думал, что это навсегда — вот в чем дело. Более того — и здесь я позволю себе зачитать одну короткую цитату в той самой книжечке, о которой я говорил в начале моего выступления — святитель Феофан говорит: «Я, слава Богу, здоров, кое-как кропаю устав Василия Великого. Строгонек! Если бы по нему заставить монахов жить, разбежались бы!». А дальше, в этом же письме: «Если бросит Господь Русь Православную, то тогда уж пойдет все навыворот. И мне нередко сдается: уж не бросил ли он ее? Слишком уж пустились мы вперед — и удержу нет! Впрочем, отчаиваться нечего. По истории-то видно, что бывали времена и тяжелее, а потом прояснилось небо. Господи, помилуй нас!». Вот эти слова звучат сегодня, может быть, даже более актуально, чем тогда, несмотря на то, что написаны сто двадцать лет назад. Но звучат актуально, как никогда. Все чаще приходит в голову: уж не бросил ли он ее? Вот духовная, как философы говорят, экзистенциальная ситуация, в которой работал святитель Феофан. Это надо помнить.
А теперь последнее, о чем нужно сказать. Святителю было предсказано, что он умрет на 94 году. Он думал, что на 94 году жизни и готовился к творческому долголетию. Оказалось, что на 94 году века. Он умер 6 января 1894 года, в день Богоявления, по своему имени — он ведь Феофаном был назван, то есть Богоявленным. А может быть, если чуть-чуть лингвистически повернуть, Богу явленным, то есть предъявившим Богу все то лучшее, что было и есть в русском православном человеке.